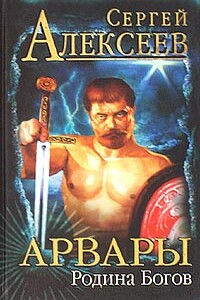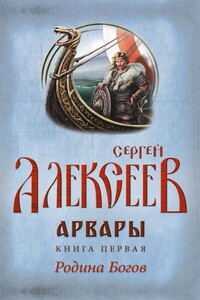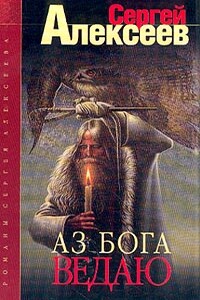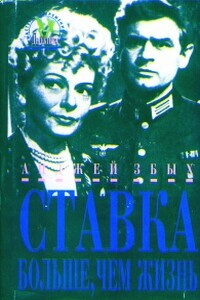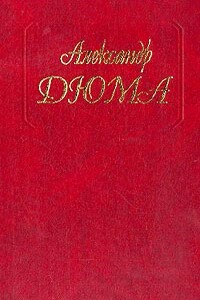Магический кристалл | страница 35
Голос обезоруживал, а непривычное взгляду, отрешенное и вместе с тем возвышенное состояние комита прилипало к лицу и рукам, как прилипает незримая паутина в темных и запущенных углах дворца или дикий варварский язык — к сознанию.
— Мы уже слишком долго ищем себе богов, покровительствующих нашим деяниям, но не чувствам, август. Империя погибнет от того, что священным стал доминий, но не то, что наполняет нас неожиданной, поистине божественной силой! Я говорю не о любви к женщине — о человеколюбии. Мы давно перестали любить женщин и видим в них лишь орудие для удовлетворения своей похоти. Но мы еще и утратили добрые чувства к человеку, как существу божественному!
— О чем ты говоришь? — страшась своего шепота, спросил Юлий.
— Я говорю о божественном чувстве, сквозь которое, как сквозь магический кристалл, мы познаем мир. Сегодня я увидел в этом юном атланте бога, которого считают рабом и содержат на цепях. Идите к нему и спросите, отчего он, рожденный смертным, стал вечным!…
3
Он ждал утра со страстью и страхом, пожалуй, во много раз большими чем тогда, когда ожидал исхода переворота возле Эсквилинских ворот. Тогда он рисковал лишь собственной головой да судьбами немногих своих сторонников, которые открыто выступили на его стороне и которым в случае неудачи грозили только тюрьма или рабство, но не смерть. Однако молодого магистра конницы Юлия сначала поддержали легионы, затем народ, и все вместе они побудили к действию сенаторов и приближенных императора. Префекту претория Антонию оставалось лишь войти к правителю в палаты, высказать сожаление и нанести один удар коротким мечом.
По крайней мере, так было записано в анналах…
Он ждал утра и как в тот раз прислушивался к тишине ночного дворца, хотя знал, что не будет больше тяжелой, хромающей поступи комита, а значит, и доброй вести. Стратег Антоний лежал в нижнем дворце Флавиев, туго запеленутый в белую ткань и уже приготовленный для погребения в родовой усыпальнице. Старый полководец, знавший лишь войны и перевороты, послуживший трем императорам и оттого не умевший ни смеяться, ни радоваться, умер с мальчишеской улыбкой и восторженными глазами, которые никак не закрывались, пока на них не положили тяжелые монеты и не перетянули шелковой лентой.
После внезапной кончины комита император прогнал всех, и несколько часов никто не смел подойти ближе перистили внутреннего двора, опасаясь вызвать незаслуженный гнев. Когда же сумрак отступил и невидимое солнце подсветило вершины Апеннин, Юлий вспомнил родной латинский язык и перевел дух, словно не дышал всю ночь. И ощутил облегчение. Этот свет на горах вдруг стал манить и притягивать взор, как тогда, когда молодой Юлий сидел в темнице преторианской когорты военного лагеря и ждал своей участи. Даже тоска была знакомой: то щемящей и обливающей сердце горящей смолой разочарования, то холодной, будто змея, заползшая под тунику.