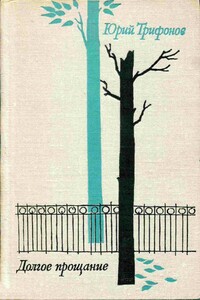Нетерпение | страница 22
И у каждого были какие-то сомнения, удивления, вопросы, поэтому зал непрестанно гудел, трепетал от жажды общения: после одиночек, после того, что мечтали хоть об одном собеседнике, вдруг этот океан друзей, можно разговаривать, смотреть в глаза, держать за руки. Первый день ушел на опросы: звание, вероисповедание, возраст, занятия, обязательная болтовня. Некоторые на вопрос о последнем местожительстве отвечали: «тюрьма». Другие, говоря о возрасте, отвечали так: «Когда был арестован, было девятнадцать, теперь двадцать три». На второй день Желиховский, злобнолицый гномик, едва видный за пюпитром, начал бубненье обвинительного акта, но никто не слушал, да и слышно не было: весь зал разговаривал.
Доносились иногда отдельные фразы: «Старались сближаться с рабочими, преимущественно фабричными… и посредством возмутительного содержания книг, привозимых из-за границы… Приверженцы Бакунина полагали, что пропагандисты должны немедленно идти в народ, организовывать для революции… Лавров же признавал… Чудовищные учения Бакунина и Ткачева… С наступлением лета члены петербургских кружков…»
Смысл стараний Желиховского был ясен: представить две сотни привлеченных к делу людей, якобы связанные с ними другие сотни и, может быть, тысячи, как единое громадное общество. Уже и название было придумано: «Большое общество пропаганды». Во всех жандармских управлениях, полицейских участках были отысканы и собраны в кучу аресты, обыски, доносы, выражения недовольства, факты и фактики, даже письма подозрительного содержания, полученные позорным путем перлюстрации: а в такой стране, как Россия, это добро, как известно, не переводится! Горы фактов, даже гигантские, были никому не нужны. Требовалось доказать существование общества. Ведь нет большего пугала для правительства, чем это словцо: общество. Нашлись и истоки злодейской организации, они вели к кружкам Долгушина, Натансона и, разумеется, к зарубежным пропагаторам. И вот, сшитое из лоскутьев многомесячным, кропотливым трудом Желиховского, развертывалось перед сенаторами, перед кучкой родственников, немногочисленной публикой и гудящей толпой обвиняемых это нелепо-величественное одеяло: обвинительный акт. По мелочам, по лоскутьям оно было, может, и правильное, но все вместе — громадная ложь. Еще до суда в камерах обсуждалось: как вести себя на процессе? Многие полагали, что надо вовсе отказаться от судебного следствия и последнего слова, не поддерживать всего этого вранья, лживой комедии. Состав суда, адвокатов — всех к черту. Не признавать! Другие считали, что надо воспользоваться возможностями открытого суда, крикнуть на весь мир. Среди «голгофцев», сидевших в Петропавловской крепости, большинство было за то, чтобы не выступать, и только Мышкин заявил, что пусть с ним делают, что хотят, но он не откажется от последнего слова. «Я не могу молчать! Как хотите, а я буду говорить, — твердил Мышкин. — Не могу не сказать подлецам всей правды о них самих. Позвольте мне всего раз, всего одну речь…»