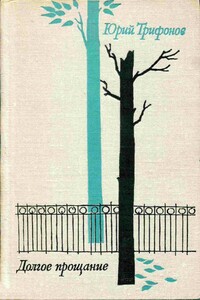Нетерпение | страница 17
Было так — никому не рассказывал никогда — вечером в дедовском доме, на птичьем дворе в имении Кашка-Чекрак, рыдала тетка Люба, упав на пол, прижимаясь к дедушкиным ногам: «Тятенька, миленький тятенька, спасите!» Дед запер дверь. Снаружи кто-то бухал что есть силы, кричали, стучали в окно, Андрей видел бородатого громадного мужика, Полтора-Дмитрия, приказчика, которого все боялись. «Отворяй, скотина. Все равно наша будет!» — орал Полтора-Дмитрий, видимо, пьяный, но дедушка отвечал: «Я вас застрелю!» А стрелять-то было не из чего, Андрей знал, было ужасно страшно и очень жалко тетю Любочку, мамину сестру, она швея, самая красивая из всей фроловской семьи, добрая, шила ему рубашки — и куда-то ее хотят забрать. Андрей закричал: «Тетя Любочка!», заплакал, кинулся к тетке, но бабка оттащила в другую комнату, заперла там. Он колотился, кричал, стучал кулаками в дверь: «Не трогайте мою тетеньку! Не трогайте мою тетеньку!» Слышал, как за стенкой шумели, тетя Люба вскрикивала, потом стало тихо, он выбрался через окошко, побежал, увидел: Полтора-Дмитрия вел тетю Любу за руку, и она, такая маленькая рядом с ним, шла медленно и спокойно, с распущенными волосами, и даже не делала попытки вырваться, а с другой стороны шел конюх Степан, по кличке Черкес. Андрею было восемь лет, но он все понял: тетю Любу вели к помещику Лоренцову. Андрей слышал раньше, как тетя Люба жаловалась дедушке: помещик пристает, грозится выдать за горбатого Миньку, если она не согласится к нему «ходить».
Что значило «ходить» к помещику, Андрей в точности не знал, но примерно догадывался: это значило насилие, нечто еще более страшное, чем избиение и даже секуция, которой подвергся однажды дядя Василий, служивший у Лоренцова лакеем. Андрей слышал вопли дяди Василия, которого пороли на конюшне. Секуцией занимался Полтора-Дмитрий (рассказывали, что одного татарина запорол до смерти), Степка-Черкес и второй конюх. Особенно ненавидели все Полтора-Дмитрия, дедушка называл его почему-то «мамон» и говорил, что своей смерти «мамону» не видать: и верно, помещичьего холуя подстерег однажды другой желябовский дядя, брат отца, живший близ Кашка-Чекрака на оброке и считавший себя человеком полувольным, независимым, и в драке проломил голову холую. Но это было позже. А в тот вечер, когда тетю Любу тащили к Лоренцову и Андрей видел ее слезы, метанья бабки, слышал бессильные проклятья деда, дал себе клятву: когда вырастет, убить Лоренцова. Лоренцов был грек, высокий, толстый, с каким-то сонным, синего цвета лицом, всегда полузакрытыми, в тяжелых веках глазами. Отец его, простой каменщик, делал надгробные памятники, разбогател, купил дворянство и право иметь крепостных, и вот теперь этот новый помещик сын могильщика — должен был лишиться своих рабов, воля была близка, о ней все говорили, мечтали. «Хотят натешиться напоследки, — говорила бабушка. — Чуют, что власть их кончается, вот и сильничают впрок».