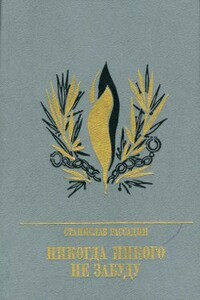Советская литература. Побежденные победители | страница 26
Что до «непростительного», по слову Твардовского, шолоховского молчания, «когда молчать нельзя было», то все же куда непростительнее был известный случай «немогумолчания». Когда Шолохов на XXIII съезде КПСС высказался относительно лагерного срока, назначенного — за смысл произведений, анонимно опубликованных на Западе, и за сам факт публикации — Юлию Марковичу Даниэлю (1925–1988) и Андрею Донатовичу Синявскому (1925–1998):
«Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговора… Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а „руководствуясь революционным правосознанием“ (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты)».
Самое — нет, не этически отвратительное, но любопытное с точки зрения эволюции писателя Шолохова здесь вот что. Говорит тот, кто некогда, да, в сущности, не так уж и давно, в четвертой, последней книге Тихого Дона не захотел, не смог «перековать» Григория Мелехова, любимейшего героя. И, скрепя сердце, конечно, обрек на неминуемый расстрел по тем самым законам «революционного правосознания».
Это притом, что на сей счет были-таки колебания, и в либретто оперы Тихий Дон (1935) Григорий еще благополучно примыкал к красным. (Кто помнит: «Хорошие ребьята… Жизнь по-своему передьелают» — этот басовой речитатив, в свое время исходивший из уст знаменитого друга СССР, негра Поля Робсона, как раз означал перековку Мелехова. Оперного.) Мало того. На перековке настаивали сильные мира того, включая Александра Александровича Фадеева (1901–1956), да, говорят, и самого Сталина. Тот будто бы даже давал понять, что в случае, если Шолохов окажется неподатлив, то можно будет, как раз опираясь на слухи о плагиате, подумать о назначении автором Тихого Дона другого литератора. А что? Есть ведь сведения, что, осердясь на Крупскую, вождь пригрозил: будет плохо себя вести, назначим вдовой Ленина другого товарища. Скажем, проверенную большевичку Стасову.
Но нет. В доносе Ставского, помимо того, что Шолохов-де сочувствует разоблаченным «врагам народа» из числа земляков, поставляется и такой компромат:
«М. Шолохов рассказал мне, что в конце концов Григорий Мелехов бросает оружие и борьбу.
— Большевиком же его я делать никак не могу».
Смело? Но Шолохов являл куда большую смелость, когда писал Сталину о несчастьях, которые коллективизация принесла Дону. Тут же главное, что это говорит художник, понимающий законы художества, законы правды характера.