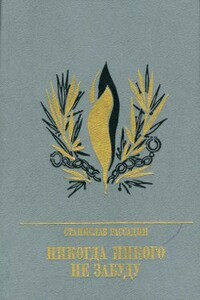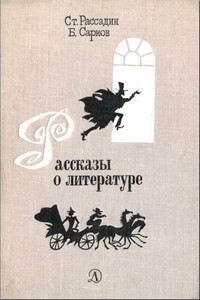Советская литература. Побежденные победители | страница 19
Любопытно было бы узнать: не является ли этот «картофель», внезапно явившийся образ, полемическим откликом на слова Пастернака о Маяковском, написанные годом раньше, — правда, в ту пору еще не опубликованные? Говоря, что после сталинско-бриковской фразы Маяковского «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине» (вскользь отметим неточность сравнения: картошка оказалась всероссийским благом, чего не скажешь о культе огосударствленного поэта, навредившего его поэтической репутации), Пастернак заключил: «Это было второй его смертью. В ней он не повинен».
Впрочем, поспорить можно и здесь. Скорее уж Маяковский не повинен в своей «первой» смерти. Что ж до «второй»…
Можно ли было сделать посмертно лучшим, талантливейшим поэтом «нашей, советской» эпохи, превратив спор о нем в спор о праве писать «агитки», скажем, Сергея Александровича Есенина (1895–1925)? Вопрос этот просто нельзя не задать — настолько Есенин и Маяковский при жизни воспринимались соперниками-антиподами. Возможно, что и остались?
«Жил на свете Есенин Сережа, / С горя горького горькую пил, / Но ни разу на горло Сережа / Песне собственной не наступил. / …Ну, а песня, а песня, а песня, / овдовевшая песня жива, / И поет ее Красная Пресня, / И Акуловка вся, и Нева. / Знать, недаром, вскочив с катафалка, / Спел Сережа, развеяв печаль: / — Вот себя мне нисколько не жалко, / А Владима Владимыча жаль!»
Это — из песни, стилизованной под «поездную», Юза Алешковского (Иосиф Ефимович, р. 1929), автора подобных же песен и озорной, причудливой прозы, в которой выделим повесть Николай Николаевич (1970), необычайно трогательную — это при более чем рискованной фабуле и обилии ненормативной лексики. И замечательно то, что мифологизированный песней самоубийца Есенин жалеет Маяковского, пока остающегося жить, — в то время как подлинный Маяковский в стихотворении Сергею Есенину (1926) осудил самоубийцу-поэта. Поспешил осудить, подчеркнув в прозе, в статье Как делать стихи? (тот же год): «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но…». Словом, когда «газеты принесли предсмертные строки: „В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей“», сразу возник «социальный заказ». Понадобилась «агитвещь». Возникла «целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красивости смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции…».