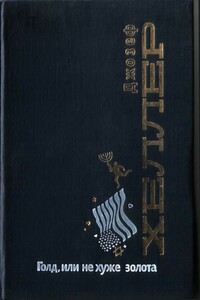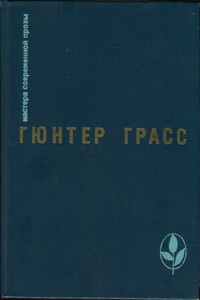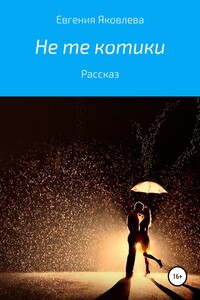Кошки-мышки. Под местным наркозом. Из дневника улитки | страница 64
XI
Те три или четыре дня, которые мне пришлось просидеть дома, каракули Мальке неотступно стояли у меня перед глазами. Моя мать была в связи с неким инженером-строителем из организации Тодта — или она все еще стряпала диетические бессолевые блюда для маявшегося животом обер-лейтенанта Штиве, отчего он и был так предан ей? — то один, то другой господин бесцеремонно расхаживал по нашей квартире, да еще, не понимая, как это символично, в стоптанных домашних туфлях моего отца. Среди уюта, словно сошедшего со страниц иллюстрированного журнала, она таскала из комнаты в комнату свою деловитую печаль и элегантным траурным нарядом щеголяла не только на улице, но в кухне и в гостиной. На буфете она соорудила нечто вроде алтаря в память моего павшего брата: во-первых, увеличенная до неузнаваемости фотография с паспорта, на которой он был снят в унтер-офицерской форме, но без фуражки; во-вторых, оба извещения о смерти из «Форпостен» и «Нойесте нахрихтен» в траурной рамке под стеклом; в-третьих, пачка писем с фронта, которую она перевязала черной шелковой ленточкой; в-четвертых, Железный крест второй степени, который она на нее положила, придвинув все это сооружение к левому углу рамки; в-пятых же, поместила справа скрипку брата и смычок, на подстеленной под него исписанной нотной бумаге — он пробовал свои силы в сонатах для скрипки, эти сонаты, как видно, служили противовесом его письмам с фронта.
Если теперь мне время от времени недостает моего старшего брата Клауса, которого я едва знал, то в ту пору алтарь возбуждал во мне ревность. Я представлял себе свою увеличенную фотографию в такой вот черной рамке, чувствовал себя обойденным и грыз ногти, когда оставался один в комнате и алтарь в память брата так и лез мне в глаза.
В одно прекрасное утро, в час, когда обер-лейтенант нежит на кушетке свой больной живот, а мать на кухне варит ему бессолевую овсянку, я непременно разнес бы в щепы своим уже окрепшим кулаком и фотографию и извещение о смерти, а уж заодно и скрипку… Но тут подоспел день призыва на трудовой фронт и лишил меня возможности разыграть эту сцену, которая и поныне могла бы производить впечатление благодаря великолепной постановке — я со своей нерешительностью, моя мать у буфета и эта смерть на Кубани. С чемоданом «под кожу» в руках я через Берент отправился в Кониц, чтобы в течение трех месяцев иметь полную возможность изучать Тухельское болото между Оше и Рецем. Ветер и вечно движущийся песок. Раздолье для энтомологов. Ягоды можжевельника под ногами. Кусты и ориентиры: четвертый куст слева — за ним цель, в которую надо попасть. Красивые облака над березами и мотыльки, не ведающие, куда летят. Темно-блестящие, круглые озерца среди топей — в них мы ручными гранатами глушили карасей и карпов. Природа, приговоренная к расстрелу. В Тухеле имелось кино.