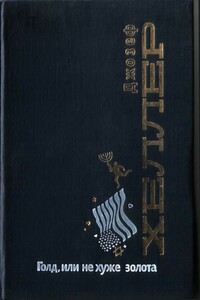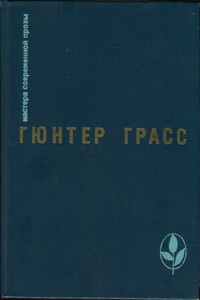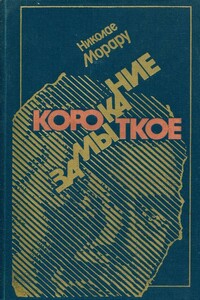Кошки-мышки. Под местным наркозом. Из дневника улитки | страница 53
Не то чтобы мы уж очень убивались, оттого что его не было. Я так даже рад был избавиться от него, не бегать за ним по пятам; но почему, спрашивается, сразу же после начала занятий я явился к его преподобию Гузевскому и предложил себя в служки? У его преподобия за очками без оправы кожа пошла множеством радостных морщинок и за теми же очками вдруг разгладилась, когда я, как бы между прочим, за чисткой его сутаны — мы вдвоем сидели в ризнице, — спросил об Иоахиме Мальке. Спокойно, поправив одной рукой очки, его преподобие Гузевский отвечал:
— Он и теперь, как прежде, один из ретивейших прихожан, не пропускает ни одной воскресной обедни, правда, с месяц он пробыл в так называемом лагере допризывной подготовки; надеюсь, я не должен думать, что вы только из-за Мальке собираетесь вновь служить у алтаря. Ответьте мне, Пиленц!
Каких-нибудь две недели назад мы получили извещение, что мой брат Клаус, унтер-офицер, убит на Кубани. Его смертью я обосновал свое желание вновь служить у алтаря. Гузевский, кажется, поверил или постарался поверить в мое возросшее религиозное чувство.
Я плохо помню черты, из которых слагались лица Хоттена Зоннтага или Винтера, но твердо знаю, что у Гузевского была густая, жесткая и курчавая шевелюра с редкой проседью; перхоть с нее осыпалась на сутану. Тщательно выбритая тонзура синела на макушке. Березовая туалетная вода и мыло «Пальмолив» определяли его запах. Он изредка курил восточные сигареты, которые вставлял в сложно ограненный янтарный мундштук. Гузевский слыл прогрессивным священнослужителем и в ризнице играл в пинг-понг со служками или даже первопричастниками. Стихари он отдавал стирать некой фрау Толькмит, если же она заболевала, то кому-нибудь из служек порасторопнее, нередко мне, и требовал, чтобы они были туго-претуго накрахмалены. Все облачение, висевшее или лежавшее в шкафах, он собственноручно увешивал или перекладывал мешочками с сухой лавандой. Когда мне было лет около тринадцати, он провел маленькой безволосой рукой от моего затылка вниз по рубашке до пояса спортивных трусиков и тотчас же отвел руку, потому что трусики были не на растягивающейся резинке, а впереди зашнуровывались тесемкой. Я не придал особого значения этому жесту, тем более что его преподобие Гузевский своими дружелюбными, я бы даже сказал, юношескими повадками внушал мне искреннюю симпатию. Я и сейчас вспоминаю его с насмешливой приязнью; итак, ни слова более о случайных, вполне невинных жестах, в сущности нащупывающих лишь мою католическую душу. Вообще-то он ничем не отличался от сотен других священнослужителей, имел хорошо подобранную библиотеку для своей малочитающей рабочей паствы, был не слишком ревностен в исполнении своих обязанностей и веровал не безрассудно — например, сомневался в вознесении Пресвятой Девы Марии — и все слова, шла ли речь о крови Христовой или в ризнице о пинг-понге, выговаривал с одинаковой елейной интонацией. Мне показалось глупым то, что в начале сороковых годов он возбудил ходатайство о перемене фамилии, и не прошло и года, как стал называться Гузевингом, его преподобием Гузевингом. Впрочем, германизация польских фамилий, оканчивавшихся на «кий», или на «ке», или на «а» — как Формелла, — получила тогда широкое распространение, Левандовский сделался Ленгнишем, господин Ольчевский, наш мясник, — Ольвейном; родители Юргена Купки пожелали на восточно-прусский манер зваться Купкат, но их прошение по никому не известной причине было отклонено. Подобно Савлу, ставшему Павлом, и некий Гузевский пожелал стать Гузевингом, но на этих страницах его преподобие Гузевский и дальше будет называться Гузевским, ибо ты, Иоахим Мальке, не изменил своего имени.