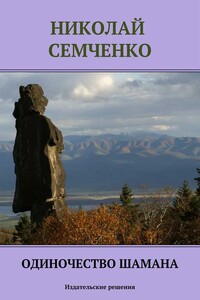Последний поезд в Москву | страница 32
Еще Ленин считал национальность реакционным пережитком. Для Сталина евреи были “бумажной нацией”, необходимость ассимиляции которой не вызывала сомнений[104]. В “Правде” публиковался ответ писателя Ильи Эренбурга, выходца из еврейской семьи, Голде Мейер, первому послу Израиля, смутившему Москву в 1948 году: евреи – не отдельный народ, они обречены на ассимиляцию[105]. Примечательно, что дочь Сталина, Светлана Аллилуева, пишет об отце: “Когда-то он был грузином”[106].
Известный своей юдофилией Максим Горький писал накануне революции, что евреи нужны в России, как нигде, чтобы бороться с “сонливостью”, то есть с обломовщиной. Однако когда “иуда” Николай Бухарин во время показательного процесса 1938 года называет русских Обломовыми, это уже расценивается как “оскорбление русского народа”. Ветер переменился[107].
В царской России Сергей Витте советовал евреям держаться от политики подальше и оставить ее для русских[108]. Также и для Троцкого была очевидной неготовность России признать еврейского лидера[109].
Среди жертв Большого террора 1937 года были, разумеется, и евреи. В процентном соотношении они представлены меньше, чем другие этнические группы, поскольку не были прямыми жертвами этнических чисток, как поляки, финны и в особенности латыши[110].
Профессор Тимо Вихавайнен полагает, что “мощный переворот при переходе соседа к социализму” не вызвал у Финляндии особого внимания. Даже “наивные левые идеалисты” верили в то, что в Советском Союзе царит плюрализм культур[111]. То же наблюдение делает и Снайдер, утверждая, что “зачистка кулаков прошла для Европы незамеченной”[112].
Как бы там ни было, после шока Большого террора, “второй большевистской революции”, мир переменился. Обновлялся и состав элиты – теперь у власти нужна была молодежь, выросшая и получившая образование после революции – примерно брежневская возрастная группа, никогда не жившая за пределами СССР и даже не выезжавшая.
Немецкий историк Карл Шлегель, посвятивший России серьезное исследование, считает, что Михаилу Булгакову удалось описать Большой террор недоступным для исторической науки способом. Беспорядочный распад всего стабильного становится у Булгакова “фантастическим реализмом”. Речь идет о романе “Мастер и Маргарита”, в котором фантастическое – обратная сторона реального, а сценой для всего этого служит охваченная Большим террором Москва.