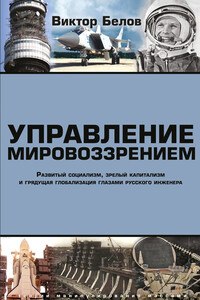Управление мировоззрением. Подлинные и мнимые ценности русского народа | страница 79
Второе. Все взаимоотношения индивидов должны были осуществляться свободно, на контрактной основе. Причем преимущество должно было отдаваться краткосрочным контрактам, которые, с точки зрения неолиберализма, за счет повышения частоты сделок максимизировали рост материального благосостояния общества.
Основное следствие, автоматически вытекавшее из этих двух постулатов, сводилось к окончательной передаче стратегической функции – целеполагания, т. е. определения направления социально-экономического развития общества, из рук политиков в руки финансового капитала. Другими словами, вместе с развитием финансовых технологий политическое управление и власть стали потихоньку перетекать из кабинетов политиков, на которых народ (в зависимости от развитости демократических институтов в отдельно взятой стране) имел хоть какое-то влияние, в офисы финансового бизнеса, никакого отношения ни к народу, ни к демократии, ни к легитимности не имеющего.
«Возникали инновационные виды финансовых услуг, которые обеспечивали не только формирование более сложных международных финансовых связей, но и создание совершенно новых финансовых инструментов, производных ценных бумаг, а также новых видов операций с фьючерсами. Коротко говоря, неолиберализация означала расцвет финансовой сферы. Усиливался контроль финансовых институтов над всеми областями экономики, включая государственный аппарат и, как указывает Ренди Мартин, повседневную жизнь».
Дэвид Харви «Краткая история неолиберализма»
Пионерами неолиберализма, рискнувшими применить новую модель на практике, стали президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Последняя достигла особенно выдающихся успехов в деле внедрения в жизнь новой экономической стратегии.
«М. Тэтчер поддержала идею о том, что кейнсианство должно быть забыто и что монетаристские решения, определяющие спрос, должны стать ключевыми для борьбы со стагфляцией. Она признавала, что это означает не что иное, как революцию в фискальной и социальной политике, и немедленно дала понять, что намерена во что бы то ни стало изменить институты и политические приемы социал-демократов, принятые в Великобритании после 1945 года. Новая политика предполагала конфронтацию с профсоюзами, неприятие любых форм социальной солидарности, подрывающих основы конкуренции и гибкости (особенно те, что выражались в муниципальном управлении и особенном влиянии отдельных профессиональных союзов), отказ или серьезное сокращение всех обязательств государства, связанных с социальными гарантиями, приватизацию государственных предприятий (включая и муниципальное жилье), снижение налогов, поощрение предпринимательской активности, создание благоприятного делового климата и поощрение иностранных инвестиций (особенно из Японии). Как заявляла Тэтчер, не существовало «такого явления, как общество, – только отдельные мужчины и женщины» и, как она же добавила позже, еще и их семьи. Все формы социальной солидарности должны были исчезнуть и уступить место индивидуализму, частной собственности, личной ответственности, семейным интересам. Идеологическая атака, которую Тэтчер вела в поддержку новых ценностей, была непреклонной. “Экономика – это метод, – говорила она, – задача же заключается в том, чтобы изменить душу”. И это ей удалось, хотя методы были не всегда последовательными и исчерпывающими, нередко они реализовывались ценой серьезных политических усилий».