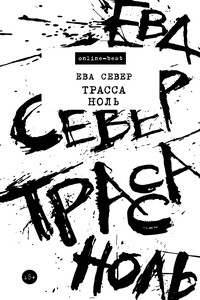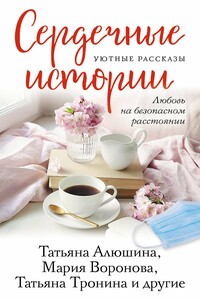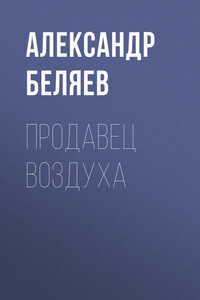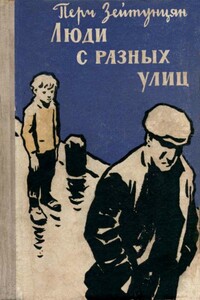Рисунок с уменьшением на тридцать лет | страница 5
Ф. Сологуб «Творимая легенда»
I
«Это было давно. Я не помню, когда это было. Пронеслись как виденья и канули в вечность года. Это было дав но, я не помню, когда это было. Может быть – никогда»…
Эти строки мне прочла наизусть в дачном саду красивая седая дама. Мне было пятнадцать, ей – пятьдесят. Она декламировала спокойно, без надрыва, вонзая иглу в вышивание, заключённое в пяльцы; я же сидела рядом и, глядя на высокую, чуть покачивающуюся сосну, тихо внимала таким печальным, таким щемящим, таким понятным словам. Понятным? Почему? Ведь они относились к чьей-то прошедшей жизни, тогда как моя только неторопливо начиналась. Но я эти строки поняла и запомнила на всю жизнь.
С тех пор прошло много-много лет. Теперь, вспоминая так и оставшиеся для меня безымянными стихи, я знаю, что в этой жизни ничто не бывает так давно, чтобы не помнить, когда это было. Что от пятнадцати до пятидесяти – один шаг. Я помню всю жизнь не только по годам – по месяцам, дням недели, часам суток, закатам, рассветам, сумеркам…
Итак, это было давно. Мы носились по каменистым дворам, наполненным старухами и детьми; на каждых пяти квадратных метрах жилой площади проживало три-четыре человека, в каждом подвале – три-четыре семейства. Наши мячи постоянно закатывались в правый, нежилой подвал – преисподнюю, заполненную водой, углём и тьмой. Коричневые корки ссадин и тёмные пятна синяков неизменными аппликациями украшали наши локти и колени. Мы знали всё обо всех: многосложная человеческая комедия игралась на небольшом пятачке двора. Для нас не было секретом, что толстая безмужняя Зоя родила голубоглазого Алёшку с головой в виде кабачка от мордастого золотозубого Тольки, жившего тут же, в одноэтажной постройке, с законной женой и ребёнком; что в младшую Зоину сестру красавицу Лёлю влюблён слушатель военной академии Владимир из квартиры визави с моей; он проходил по двору, глядя в землю, и лишь в последний миг, перед исчезновением в спасительной тьме подъезда, вскидывал на миг глаза на торчавшую из окна первого этажа возлюбленную; как он ни старался, этот отчаянный взгляд не оставался незамеченным – мы хихикали, Лёлька ехидно улыбалась, – было совершенно ясно, что она его не любит. Когда я была маленькая, Лёлька дразнила меня «у-у, какие глазища, как плошки», надолго поселив во мне уверенность, что большие глаза – крупный недостаток…
Да… Мы знали всё обо всех, но не обо всём: живя в самом центре Москвы, не ведали, что вокруг – изысканные фасады, старинные ворота, уникальные ограды, атланты и кариатиды, средневековые палаты и исторические пруды. Все эти шедевры были для нас привычной окружающей средой, мы носились мимо них вместе с нашими озабоченными тяжелой послевоенной жизнью мамами и папами (теми, что остались в живых после войны), ничего не зная, ничего не понимая. Правда, всё было запущено, обшарпано, запылено, разрушено. Правда, ещё не родились на свет – для сравнения – новые спальные районы с домами-близнецами без «излишеств», расчерченными по фасадам чёрными швами, с удобствами в виде замызганных балконов. Зелени было крайне мало – зелёным было только бульварное кольцо, внутри которого, в замкнутых дворах, протекало наше детство.