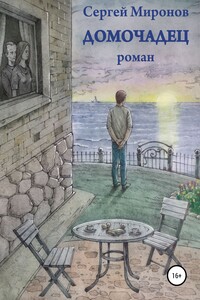Испанцы трех миров | страница 23
И все мы, кто во что, смотрели на солнце — в театральные бинокли, в подзорные трубы, сквозь бутылки, сквозь задымленные осколки, — смотрели отовсюду, с лестниц, голубятен, из чердачных окон, из-за решетчатых дверей сквозь их синие и красные стекла…
А солнце, то самое солнце, что мгновение назад своей золотой сумятицей все вокруг делало вдвое, втрое, вдесятеро больше и лучше, разом, минуя сумерки, оставило все бедным, покинутым, словно разменяв золотые, а затем серебряные слитки на медь. Весь город обернулся медяком, позеленевшим и уже неразменным. Как невзрачны и жалки проулки, площади, башня, нагорные тропы!
Платеро там, во дворе, кажется другим, уменьшенным и нереальным; это не он…
ЛАСТОЧКИ
Эта черненькая непоседа, Платеро, она уже здесь, в своем сером гнезде над образком Богоматери в нише часовни, весьма почитаемом гнезде. Бедняга явно перепугана. Мне кажется, что ласточки растерялись, как растерялись на прошлой неделе куры, поспешив на насест во время полуденного затмения. В этом году весне приспичило проснуться пораньше, но вскоре, продрогшая, она снова зарылась в пуховую постель марта. Больно смотреть на увядшие розовые бутоны апельсиновой рощи.
Ласточки на месте, Платеро, но их едва слышно, не то, что прежде, когда в день прилета они радовались и удивлялись всему на свете, без умолку чертя вензеля своей узорчатой болтовни. Они рассказывали цветам об Африке, о своих двух путешествиях за море, то вплавь под парусом крыла, то обсыхая на корабельных снастях, об иных закатах и рассветах, о нездешних звездах в нездешнем небе…
Они не знают, как быть. Снуют беззвучные, сбитые с толку, как муравьи, когда их топчет ребенок. Они не решаются ни носиться вверх и вниз вдоль Новой улицы по неуклонной прямой с завитком в конце, ни обживать свои гнезда в колодцах, ни усеивать нотными знаками телеграфные провода, зловеще гулкие от северного ветра… Они ведь умрут от холода, Платеро!
КРЫША
Ты, Платеро, никогда не поднимался наверх. И не знаешь, какой глубокий вздох раздвигает грудь, когда в конце темной деревянной лесенки вплотную столкнешься с небом и тонешь в синеве, сожженный солнцем, ослепший от раскаленной извести, которой светится мощеный дворик, белёный, как тебе ведомо, чтобы чистой текла в водоем дождевая влага.
Магия высоты! По грудь в колокольном звоне стоишь вровень с башней, и колокол бьет у самого сердца в лад его сильным и звучным ударам; сверкают на далеких виноградниках лопаты, искрясь серебром и солнцем; все как на ладони: соседние крыши, дворы, где люди хлопочут, забытые, каждый над своим — маляр, седельник, бондарь; загоны в мазках зелени рядом с быком или козой; кладбище, где порой неприметно чернеет недолгое пятно нищенских похорон; окно, где девушка в сорочке бестревожно причесывается, распевая; лиман с вошедшим парусником; гумно, где возится с корнетом одинокий музыкант или сумасбродит, отпав от мира, слепая яростная любовь…