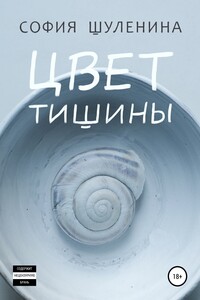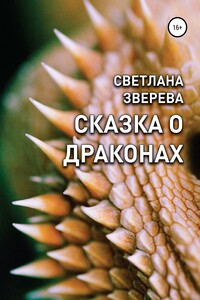Испанцы трех миров | страница 17
Кстати, первое издание «Андалузской элегии» 1912 года — отдельные главки, отобранные издателями «Детской библиотеки», сам автор отказался это делать — Хименес предварил словами: «Эту маленькую книжку, где печаль и радость двоятся, как уши Платеро, я писал… для кого пишем мы, поэты? Сейчас, когда издают ее для детей, я не меняю ни единой буковки». Сам он никогда не писал «для детей», считая, что они понятливей взрослых и не нуждаются в подсказке.
Мир Хименеса стал в его новых книгах аскетичней и абстрактней. Но поэт был живым, а значит, изменчивым и стихийным. По меньшей мере две контрастных темы, переходя из книги в книгу, сталкиваются и переплетаются в сложном контрапункте, как мелодии надежды и прощанья.
— это один лейтмотив. И другой:
Можно ощутить вечность, но ни с кем, даже самым любимым, нельзя разделить смерть. Мир Хименеса — это мир, где «сталкиваются звезда со слезой». В нем жива человеческая печаль и она-то его и согревает.
Мысли Хименеса могут казаться наивными, утопичными, какими угодно, но одно несомненно — они всегда благородны. Слово не столько старомодное, сколько искаженное, изуродованное историей и обществом, но по-прежнему безошибочное, если обратиться к его незамутненному смыслу: благородно рожденное на благо. Не смешны и не трогательны, но трагически одиноки донкихотовские усилия Хименеса на пороге братоубийственной войны, когда он убеждал оглохших: «Поэт не может не петь вольно. Когда он поет вольно, он очищается, даже не помышляя о том, от любой скверны. Знание, опыт и логика его не выручат, и если рассудок помешает ему петь вольно, он запоет вымученно и сухо. И лучше бы политику не принуждать поэта не петь или петь под диктовку, а самому пригубить этой вольной песни…
Стало расхожим мнение, что поэзия расслабляет, что это удел мечтателей, а не мощное проявление жизни. Но самые могущественные страны всегда славились самой утонченной поэзией. Сильные народы знали всегда и знают сегодня, что поэзия, достигшая вершины, ведет в народ: чувство тем жизненней, чем оно ближе к народному.
Нет, поэзия не расслабляет. Слабость не в душевной глубине, а в поверхностном лоске, не в тонкости, а в изворотливости. Мы слабы, когда слабеет в нас поэзия жизни.
Когда люди хватаются за колья, это уже не люди, это колья. Давайте же доверять нашей подлинной силе».