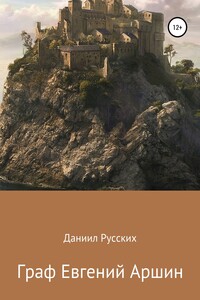Испанцы трех миров | страница 133
Ослица была спутницей едва ли не всей его жизни, матерью, сестрой и подругой. Она была для него всем, образцом и подобием. Она согревала жизнью горную глушь, и с ней он забывал заманчивые морские отмели.
Этой зимой она слегла. Он силился понять, что с ней, и, собрав воедино всю свою любовь, ломал голову, не зная, что делать. Долги, страшно долги часы темной лесной тоски. Плакучий ветер в соснах, безучастные птицы, беспросветные дали.
Когда ослица слегла, он не смог поставить ее на ноги и лишь отчаянно старался хоть чем-то ее порадовать. Он обложил ее соломой, таскал ей свежую траву, предлагал ей свой хлеб и свои сардинки. Он раскрашивал лицо сажей и суриком и в таком виде выплясывал перед ней что-то магическое и первобытное или, растянувшись напротив, часами рассказывал ей сказки и пел песни на собственные, подходящие к обстановке, слова.
Когда похолодало, он ради больной развел огонь на славу и поддерживал его час за часом, пока бедняга не умерла.
«Зато она умерла довольной!» — говорил он, выкатывая огромную чумазую слезу.
ГРАНАДСКИЙ ВОДОНОС
Сумерки, затаенная Гранада, Хенералифе и я, замерший впотьмах на ступеньках водостока, утомленный неземными красками райского вечера, бесплотной тенью погруженный в ту бездонную фиалковую темноту, что росла и все вокруг растворяла в небесной прозрачности, пока не остались одни звезды.
Вблизи и вдали, из лабиринта струек, родников и стоков, вода обдавала меня свежестью цветистых отголосков. Она без конца сбегала и бежала мимо, и мой слух, настраиваясь на нее, схватывал малейший звук с чуткостью чудесно слаженного инструмента; погруженный в себя, то был уже не инструмент, а сама музыка воды — музыка, ставшая немолчной, своевольной водой. И музыка эта становилась все внятней и звучала все смутней, потому что звучала уже во мне, в лад моей крови, моей жизни, и я угадывал мелодию моей жизни в беге воды. Я слышал сердцебиение мира. И чем темней и звучней становился воздух, тем окрыленней пела гранадская вода, и все во мне звучало в лад воде, которой я не слышал, потому что сам был ее песней и всем, о чем пелось…
Мне почудилась узкая тень, и нелюдимая, чуткая тишина, вся — напряженный слух, сгустилась в угловатую тень человека, такую же тень, как я. Мне показалось, что приближался он смущенно и нерешительно. И наконец заговорил, но так, словно боялся спугнуть журчание:
— Слушаете воду?
Между моей тенью на ступеньках и чужой, по ту сторону перил, пела вода, и без устали, блестя глазами, бросая на нас беглые взгляды, спешила дальше, и, наверно, замирала на уступе, глядя вниз, перекликалась с пустотой, полусмеясь, полуплача, пропадала и вновь возникала, везде и нигде, завораживая своей то ли правдой, то ли ложью.