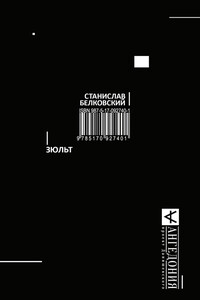Осип Мандельштам и его солагерники | страница 5
Идти было недалеко — проулками по кромке косогора по-над рекой Воронеж. Очередь в приемной к окошку совсем никакая — с полтора десятка мрачных интеллигентов. Почему? Объяснение пришло быстро: времена изменились, и высылками и ссылками НКВД больше не пробавлялся. Из следственной тюрьмы дорога вела уже не в губернские города и даже не в ссылочную глухомань, а прямо в лагеря или на смерть.
Самое верное, на что можно было рассчитывать, это на отсутствие ответа, на что-то вроде «Ваших бумаг нет, приходите завтра или через неделю». Но рука из окошка протянула Мандельштаму бумажку, справку по форме № 13, где черным по белому стояло:
«Настоящая справка выдана для представления в Управление (Отдел, Отделение) РК Милиции по месту избранного жительства для прописки. / Справка действительна при предъявлении паспорта и при прописке оставляется в соответствующем Управлении (Отделе, Отделении) Милиции»
Перечитав, О. М. «ахнул» и даже бросился назад переспрашивать: «Значит, я могу ехать куда хочу?» Но дежурный рявкнул, не отвечая, и недоумевающий счастливец отошел, словно боясь утерять в счет ответа, если бы он был дан, толику своего счастья.
…Начались предотъездные хлопоты. В тот же день Надежда Яковлевна завершила переписывать для Наташи Штемпель «Наташину книгу», а Осип Эмильевич подарил ей «Шум времени» с надписью: «Милой, хорошей Наташе от автора. В. 16/V-37 г.»[8].
Еще как минимум неделя ушла на «ликвидацию воронежской оседлости». Скарб распродали и раздарили, но всё равно осталась груда вещей, на которые троица — поэт, его жена и его теща — однажды уселись на воронежском вокзале в ожидании поезда. В кармане мандельштамовского пиджака веером разлеглись три небольшие картонки — плацкарты на Москву[9]. А на следующее утро та же троица, передавая друг другу корзинки, узлы и чемоданы, вылезла уже на столичную платформу.
Везение, однако, продолжилось и в Москве. Ни Костарева, ни его жены и ребенка, ни даже его вещей в квартире не было: короткая записка на столе извещала о том, что всё это откочевало на дачу.
И сразу же предарестная жизнь и жизнь нынешняя «склеились» в единое целое, словно и не было той страшной трехлетней пустоты посередине, заполненной Лубянкой, Чердынью, Воронежем, Воробьевкой, Задонском, стукачом Костаревым за одной стеной и гитаристом Кирсановым за другой. Оказавшись одни и у себя, Мандельштамы враз забыли и про новые ежовые времена (а ведь был самый канун того, что позднее станут называть Большим террором!), и про свои «минус двенадцать»