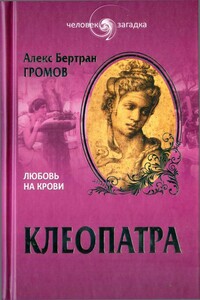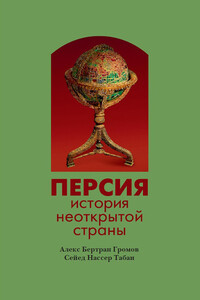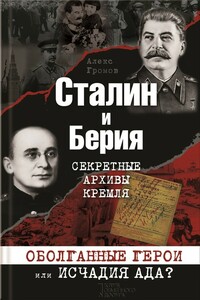Нарком Фрунзе. Победитель Колчака, уральских казаков и Врангеля, покоритель Туркестана, ликвидатор петлюровцев и махновцев | страница 56
Причем Сталин не просто выдвинул этот план, но и настаивал на его одобрении в весьма категоричной форме: «Без этого моя работа на Южном фронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на Южном фронте».
Ленин поддержал план Сталина.
17 октября Сталин подписал директиву Реввоенсовета Южного фронта командованию 14-й армии о штурме Орла, а через два дня город был уже взят. Следующая директива определяла главным направлением красноармейского удара по деникинцам – на Курск.
Союзничество с подразделениями Махно впоследствии сыграет немалую роль во время возглавляемого Фрунзе натиска на врангелевский Крым.
Знамена разные, жестокость общая
История Гражданской войны в России трагична не только потому, что друг против друга шли жители одной страны и у каждой стороны была своя, часто очень искренняя правда, а примирить красную и белую правду было невозможно. Одним из самых страшных явлений Гражданской войны была массовая жестокость, которую опять же проявляли обе стороны, часто скатываясь до средневековых, а то и более архаичных ее проявлений. Имя Михаила Фрунзе – одно из тех немногих, с которыми связаны не страшные рассказы о массовых расправах, а свидетельства о попытках даже в захлестнувшем страну водовороте взаимной ненависти белых и красных проявлять благородство по отношению к противнику.
Но, конечно, жестокости, творимые и белыми, и красными, запечатлелись в исторической памяти. Они потрясают не только обычных людей, но и специалистов. В.П. Булдаков в своем исследовании «Революция, насилие и архаизация массового сознания в Гражданской войне: провинциальная специфика» (альманах «Белая гвардия», № 6, 2002) подробно описывает эти явления как «своего рода традиционалистскую реакцию на «цивилизованные» формы насилия Первой мировой войны. Большевизм, рожденный доктринальным отрицанием «войны машин против людей», не мог не реанимировать реликтовые разновидности насилия, действующего по нескольким параметрам, а не по линии противоборства эфемерных пролетариата и буржуазии. Наиболее масштабной и «сущностной», разумеется, оказалась война деревни против города. «Региональная революция» в ее местническом и пространственно-информационном измерениях – особый ее вариант. Ее не следует рассматривать как бунт «отсталой» провинции против столиц – это понятие скорее социокультурное, нежели географическое. Сами столицы были средоточием «периферийного» (солдатско-матросского) насилия в 1917 г. – отсюда и октябрьская победа большевиков». Правда, затем из революционных столиц покатилась волна революционной стихии обратно в регионы. И те самые «столично-провинциальные маргиналы», наспех вооружившись идеями и лозунгами, ринулись воспламенять население глубинки. Там они сталкивались то с сопротивлением, то с восторженным принятием революционных перемен. Оба варианта реакции гарантировали новые вспышки и цепное нарастание массового насилия.