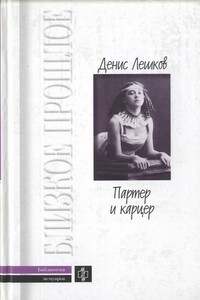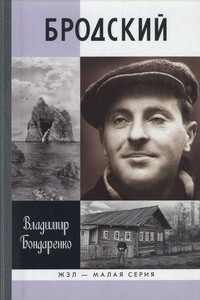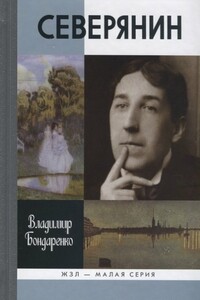Последние поэты империи: Очерки литературных судеб | страница 57
(«Что-то было, какие-то смыслы…», 1950-е)
Не случайно его отец, лагерник, встретившись с ним после своего освобождения, с учительской и отцовской интуицией испугался его первых стихов, испугался неизбежно последующей за такими стихами мрачной судьбы сына. Отец со своим пониманием русской классики, с восторгом перед высоким чудом искусства был прав.
«— Знаешь! — кричал отец. — Знаешь, чего у тебя нет?! В сочинении твоем литературном? Любви! Любви не слышно… Тепла ее милосердного! Накручено, наверчено, а любви не слыхать!..
Это он от любви. Ко мне, к моей судьбе… И вряд ли его тревога вызвана одним только чуждым ему набором слов, которым пользовался я в сочинении… Дело, скорее всего, в дыхании моего письма. Дыхание моего письма показалось ему тяжелым, отягощенным различными вредоносными примесями. А легкого дыхания не получилось. Из-за несвободы моей от… нелюбви. Из-за неочищенности моей крови, нервных клеток и узлов от земных потрясений…» — свидетельствует поэт в недавних воспоминаниях.
Думаю, что и поэтическая компания Иосифа Бродского, Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна позже тянулась к нему, принимая почти за своего, за пьяного юродивого поэта, за некий ленинградский вариант Венички Ерофеева, чувствуя в его ранних стихах тоже неизжитую еще нелюбовь к жизни. А пришла зрелость, пришло покаяние «окаянной головушки» — и все эти поэты сразу от него отвернулись, невзлюбили, выкинули из своей стаи. Сразу же чужим стал…
Глеб Горбовский пишет в автобиографических «Остывших следах»: «Как видим, сюжеты прихлынули не из изящных. Отсюда, полагаю, и мое дальнейшее пристрастие — тащить в стихи все ущербное, униженное, скорбно-неприглядное, измученное непогодами Бытия…»
И даже когда жизнь рядом со смертью давно закончилась, когда ушли реальные тяготы и тревоги, осталась в душе тяга жить на пределе. То, что сегодня называют — русский экстрим. Только это могло толкнуть молодого яркого поэта к такому сверхмрачному предчувствию:
(«В час есенинский и синий…», 1968)
Шуточка-то с могильным приколом. Ее эпатажной, полудиссидентской игрой не объяснишь: вот, мол, какой я смелый, самого Комитета не боюсь. Это совсем не элегическая полуэпитафия самому себе, написанная Иосифом Бродским в те же годы: