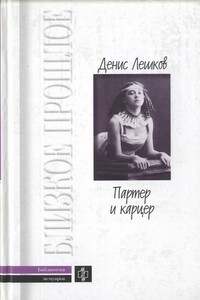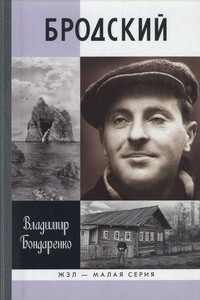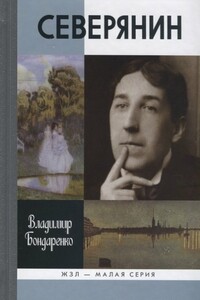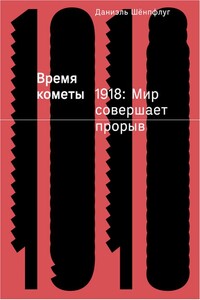Последние поэты империи: Очерки литературных судеб | страница 26
(«Спасибо, музыка, за то…», 1960)
Пожалуй, из всего круга поэтов, принадлежащих к условно называемой «тихой лирике», Владимир Соколов единственный — всеми своими лучшими стихами — полностью входит в это понятие. Все-таки и Николай Рубцов, и даже Анатолий Передреев часто нарушали каноны «тихой лирики», выходили за ее пределы. Что уж говорить о Станиславе Куняеве или Глебе Горбовском, которых связывала с этим кругом поэтов скорее личная дружба и общность взглядов, отношение к традициям русской культуры, но никак не тихое лиричное состояние, которое они из себя скорее вымучивали, будучи по природе таланта совсем иными поэтами.
Для Владимира Соколова «тихая лирика» была почти всем — пристанищем, убежищем, крепостью, отношением к жизни. Он мог расставаться с друзьями, но и на другом литературном берегу, в другом идейном лагере он оставался в лучших своих стихах все тем же утонченным и безыскусным «тихим лириком». Он не поэтизирует жизнь, он ищет в ней поэзию. Но одного перечисления ее примет Соколову бывает недостаточно, и каждый раз он сам своим «лирическим жестом» вторгается в свою же великолепно выстроенную лирическую картину:
(«Хотел бы я долгие годы…»)
Вот, к примеру, начинается живописание словом, происходит рождение нового лирического полотна: «Черные ветки России / В белом, как небо, снегу». Можно такое красочное перечисление продолжать, упиваться светом, запахами, прохладой, цветовой природной гаммой, находить меткие детали, образы, сравнения, и это будет у поэта, но позже:
(«Белые ветки России», 1968)
А прежде следует авторский лирический жест: «Эти тропинки глухие / Я позабыть не смогу». Нет, поэт не может и не хочет быть безучастным, быть только тонким созерцателем. Лирический жест всегда определяет, а иногда и меняет картину нарисованного им мира.
По закону «тихой лирики», чтобы понять поэта, в него надо вслушиваться. Меня всегда удивляла его дружба с Евгением Евтушенко. И даже не по разности их характеров, не из-за противоположности мировоззрений. Я удивлялся, как тонкие барабанные перепонки «тихого лирика» Соколова выдерживают децибелы евтушенковского громкого рычания. Какой-то контрастный душ! Евгений Евтушенко видел в Соколове явно не того поэта, каким тот был, а некий необходимый ему образ. Ему надо было приблизить к себе талантливого поэта, редкого мастера лирического слова, обладающего тем даром проникновенности в душу человека, которого именитому эстрадному поэту явно не хватало. Евтушенко пишет в предисловии к двухтомнику Владимира Соколова «Избранные произведения» (1981): «О Рождественском и обо мне иногда говорили как о поэтах, якобы впервые выразивших поколение, чье детство прошло во время Великой Отечественной. Но это не так. За несколько лет до того, как мы только приступили к теме войны с точки зрения не воевавших, но мечтавших воевать мальчишек, Соколов уже писал: