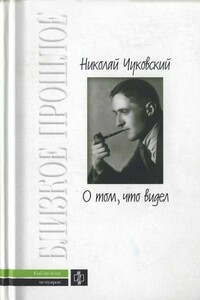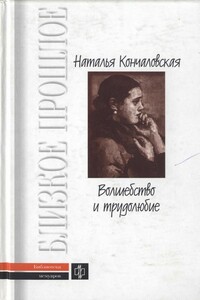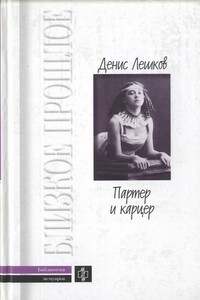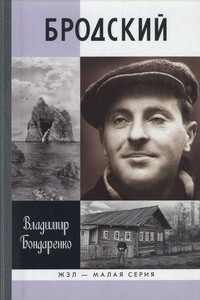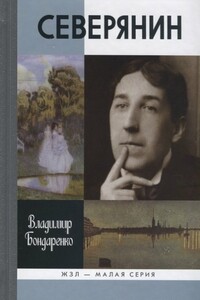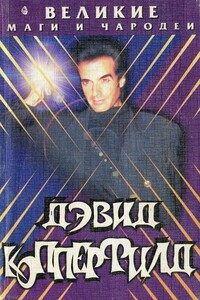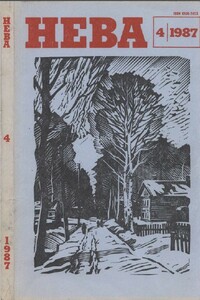Последние поэты империи: Очерки литературных судеб | страница 18
(«Вербная песня», 1994)
Нет, выкидывать из поэзии Николая Тряпкина мощные, трагичнейшие красные стихи 1994 года, написанные уже после полнейшего крушения некогда могучей державы, уже после октябрьского расстрела 1993-го, у меня лично не поднимется рука, даже только из любви к его таланту.
Знаю, что кое-кто из именитых патриотов монархического толка постарается не допустить красный цикл, десятки блестящих поэтических шедевров, в его будущие книги, тем более и родственники препятствовать этому урезанию не будут. Но писались-то с болью в сердце эти строки не именитыми патриотами и не осторожными родственниками, писал их истинный русский национальный поэт Николай Тряпкин. И что-то глубинное выдернуло его из сказов и мистических преданий, из пацифизма и любовного пантеизма, бросив в кровавую баррикадную красно-коричневую схватку. И это была его высшая отверженность. В те годы он был частью нашего «Дня», был нашим сотрудником в народе. Был нашим баррикадным поэтом. И он гордился таким званием. Гордился совместной борьбой. Он писал в «Послании другу», посвященном Александру Проханову:
(«Послание другу», 1993)
И я смею только гордиться тем, что все его последнее десятилетие жизни и творчества постоянно встречался с ним и дома, и в редакции газеты, и на наших вечерах, и в его бродяжничестве у знакомых, и после его тяжелейшего инсульта, когда он вернулся уже смиренный к себе домой — умирать. Я был с женой и поэтами Валерой Исаевым и Славой Ложко из Крыма у него в день восьмидесятилетия. Больше никого из писателей не пустили, да и мы попали только потому, что привезли из газеты к юбилею поэта солидную сумму денег. Он лежал в кровати чистенький и смиренный, добродушный и домашний, но душа его оставалась все такой же бунтарски отверженной: «Права человека, права человека. / Гнуснейшая песня двадцатого века».