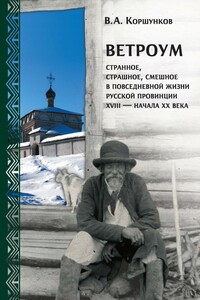Дорожная традиция России. Поверья, обычаи, обряды | страница 56
– Ну, ребята, идём, – сказал он. – Да смотрите, ничуть не издавайте никаких звуков, – повторил он свои наставления. – Говорить можно после, а теперь нельзя, – добавил ещё он.
С этими словами он встал и, сказав: “Остэ, Инмарэ” (благослови, Господи), пошёл к дверям.
– Зачем говоришь “Остэ”? Ведь выйти надо не благословясь, – заметил кто-то.
– Нельзя, брат, без этого! – сказал он. Пускай кто как хочет, так и делает. Но я теперь без этого на улицу не выйду. Как знать? Неровен час – встретишься с колдуном или с самим шайтаном; а благословясь безопасно. Хотя прежде старики и выходили не благословясь, но те времена прошли»[217].
Для уважаемого, знающего местные традиции крестьянина благословение при выходе из дома – всё равно как словесный оберег от колдуна или шайтана. Хотя, действительно, выходить на гадание, по народным представлениям, лучше бы без призыва к высшим силам. В заговорных текстах путь за желаемым так и изображается: «Выйду не благословясь…» Быть может, он принимал в расчёт, что с ними в компании священник (пусть даже интересующийся всякими нехристианскими обрядами). Отметим в этом рассказе и указание на обычай присесть перед выходом на серьёзное дело, который касался всех присутствующих.
А у менее христианизированных по сравнению с удмуртами марийцев имелись специальные, оберегающие путников «божества дороги» – Корнымбал Юмо, Корно Юмо. К ним и им подобным мифологическим персонажам обращались при выходе из дома с просьбами о благополучном и безопасном пути[218].
Святые защитники
Т. С. Ильина, изучавшая нынешнюю народную культуру Русского Севера, писала: «В современной деревне чрезвычайно распространены молитвы “в путь”. Исследователи называют их по-разному. В научной литературе нам встретились два основных названия для этих текстов – заговоры… и молитвы… Отсутствие единого мнения на счёт того, к какому жанру можно отнести эти тексты, говорит о том, что они имеют нечто общее и с заговорами, и с молитвами». Сама Ильина добавляла, что они называются также «молитовками»[219]. Если люди, использующие формульно организованные словесные (вербальные) напутствия, на практике предпочитают именовать их «молитвами» и «молитовками», то это, по-видимому, означает, что, с их точки зрения, это такие тексты, которые находятся в русле субъективно понимаемой православной традиции. Уменьшительное «молитовка» может указывать, что люди осознают их отличие от канонических молитв, подкреплённых постоянным церковным обиходом, понимают менее официальный статус и вообще их краткость и полуимпровизационность (особенно теперь).