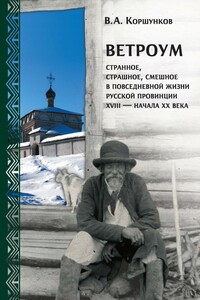Дорожная традиция России. Поверья, обычаи, обряды | страница 53
Вообще в дворянских семьях, что жили в усадьбах, при собственных крестьянах, приезд и отъезд превращался в целый ритуал, в котором обычно принимали участие и «люди» тоже[204].
Про Н. В. Гоголя рассказывали такой анекдот. Как-то раз его, дескать, спросили, отчего это он «сочинения свои испещряет грязью самой подлой и гнусной действительности». И он отвечал: ничего не поделаешь, я как нарочно натыкаюсь «на картины, которые ещё хуже моих». Вот, мол, вчера отправился он в церковь. Шёл по проулку, в котором располагался бордель. «В нижнем этаже большого дома все окна настежь; летний ветер играет с красными занавесками. Бордель будто стеклянный; всё видно. Женщин много; все одеты будто в дорогу собираются: бегают, хлопочут; посреди залы столик покрыт чистой белой салфеткой; на нём икона и свечи горят… Что бы это могло значить?» Встреченный пономарь, уже завернувший было в этот дом, отвечал, что там – молебен: «Едут в Нижний на ярмонку; так надо же отслужить молебен, чтобы господь благословил и делу успех послал». Такая запись находится среди бумаг известного литератора Н. В. Кукольника (1809–1868)[205]. В XIX в. известна была и другая, краткая версия этого же анекдота[206].
Писатель и публицист Н. Н. Златовратский (1845–1911) в рассказе о своём детстве «Мой “маленький дедушка” и Фимушка» вспоминал, как однажды его дед, сельский дьячок, провожал в путь свою родню:
«Но дедушка сделался ещё серьёзнее. Вдруг он как-то весь выпрямился и голосом, каким он обыкновенно говорил только в церкви, и то во время особенно торжественной службы, сказал строго бабушке:
– Анна, подай-ка мне образ!.. Ну, присядемте все, как по порядку, – прибавил он, когда бабушка подала ему образ.
Бабушка теперь совсем изменилась и стала такая смирная, послушная деду.
Мы все сели. Посидев несколько минут молча, все поднялись. Дедушка стал молиться, потом благословил образом батюшку и матушку (родителей рассказчика. – В. К.), потом меня с сестрой»[207].
В допетровской России множество священников, монахов и прочих «духовных» собиралось по большим дорогам и по берегам рек, чтобы, завидя прохожего-проезжего, благословить его крестом в надежде за это получить от него награду[208]. Такое полученное от «духовного лица» благословение оберегало на трудном пути.
И. С. Аксаков летом 1865 г. совершал путешествие по югу России. В двух подряд письмах к будущей своей жене А. Ф. Тютчевой, от 29 и 30 июня, он размышлял о напутственных молитвах. «Перед отъездом моим Маменька служила молебен о путешествующих в (московском. –