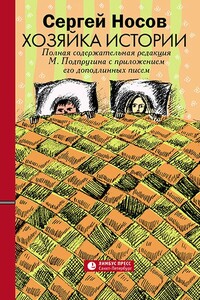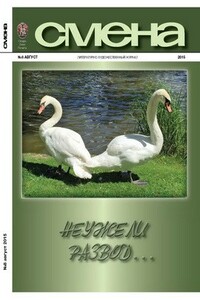Коза-дереза | страница 47
— Ох, козу бы сюда!
Теперь доярки коров накормят…
Никогда я не смеялся над кукурузой. Говорили, что сеяли ее под Полярным кругом, я про то не знаю, я не северянин. Но у нас в деревне благословляли это могучее растение, позволившее наконец хоть как-то накормить голодных колхозных коров. И чем бы кормили такое стадо, не будь оного маиса? Былками на затоптанных буграх? Чахлой овсяницей? Соломенной резкой?
— Вот бы нам посадить такую на огороде, — сказала мать. — Корову бы завели…
Тут я почувствовал, что она ударилась в беспочвенные фантазии. Кто же разрешит, и не отвыкла ли уже она сама от коровы?
— А картошка? — спросил я.
— Картошка, конечно, нужнее.
Так мы шли, недоумевая, кто и зачем придумывает анекдоты про кукурузу, вдоль этого молчаливого неживого леса, то ли американского, то ли марсианского, — леса, где не пели птицы и не аукали дети, но который обещал накормить и фантазеров и прагматиков, мимо леса будущего, леса изобилия, леса грядущей коммунистической России. И пришли в село к свахе по козе. Заплатили свахе, посидели с ней за столом, распили четвертинку, козу за рога и повели обратной дорогой.
Коза все пыталась оглянуться на родное гнездо, а потом вроде бы успокоилась и бодро трусила в места будущего обитания.
Мы отошли километров пять от родины Екатерины Третьей и очутились на дне травянистой балки; по ее склонам шли невысокие посадки, а в перспективе синел большой естественный лес. Тут мать спросила:
— Рука не устала?
— Ничего, — ответил я, хотя в самом деле утомился держать козу за тонкий ребристый рог.
И вот тут-то на мать нашла новая, совсем уж неразумная фантазия:
— А давай козу отпустим. Интересно, куда она пойдет?
И мы ее отпустили.
— Пусть потихоньку за нами идет, — сказала мать. — Мы уже порядочно отошли. Кать-кать-кать! Пошли, куда ей деваться.
Но — о ужас! — коза, отпущенная нами, мгновение стояла в растерянности, а потом скорым шагом подалась по дну балки прямиком к синевшему вдалеке лесу. Она прямо-таки шарахнулась от нас, и стало более чем ясно, что больше, мы ее не увидим.
— Свобода! — так мемекнула коза, внезапно освободившаяся от своего тысячелетнего рабства.
— Свобода! — пела ей златокрылая пчела, невесть откуда залетевшая в этот пустынный угол мира, на полу сожженные солнцем цветы.
— Свобода! — призывал ее дальний лес. И мы ужаснулись.
Но почему-то я не услышал в ее мемеканье подлинного ликования. Клянусь Зевсом: оно было неуверенным, словно бы даже вопросительным. И все бегство козы… с чем бы его сравнить? С бегством нимфы от сатира — нимфы, безусловно, искренне озабоченной проблемой сохранения невинности, но в то же время осознающей неизбежность необходимого? С похождениями мазохиста, пристающего к пьяницам у магазина в подсознательном желании быть побитым? С психологией цыганенка, которого я однажды видел на пустыре у церкви? Отец взял кнут и велел ему подойти, а заморыш заныл и пошел по кругу с постоянным радиусом, как коза на привязи — подойти под кнут было страшно, а бежать куда глаза глядят — и того страшнее.