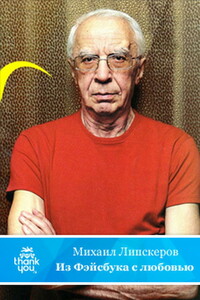Коза-дереза | страница 2
Огонек гаснет, безжалостно задутый, и воцаряется тот предвечный мрак, что уже был до моего рождения.
Теперь не на что смотреть. У, в каком черном клубящемся хаосе я лежу и хочу действия! Теперь я могу только ощущать то, что ощущается телом. Что же я чувствую? Прежде всего, страшный f`p снизу — твердый, непреходящий, неумолимый жар. Еще — меня сдавливают с боков какие-то чужие большие тела. И еще на мне что-то тяжелое, душное и тоже теплое. Я задыхаюсь, и все мое существо протестует против этого непонятного — ужаса:
— Мам!.. Зажги пузырь!
То ли, погребенные после расстрела, мы лежим глубоко в земле и будем так лежать вечно к злорадному удовольствию чего-то черного, жуткого, всевластного, придавившего сверху наши души и весь наш мир? Это — и есть жизнь? Но отчего, зачем ее невыносимость? Как душно, как темно, как тяжело дышать! И я, как травинка, лишенная воли и силы, пытаюсь выжить и бороться за себя, и снова прошу в темноту, в мир, в котором нет ничего, кроме моего жалкого сознания:
— Зажги пузырь!..
Кто вложил в меня эти слова? Откуда я их знаю? Разве понять эти тайны? Но ведь я уже не природа, не клубящийся хаос, — я чувствую. И виноват ли я в том, что первым, главным и единственным моим чувством стал ужас? Кто-то большой, тоже ворочающийся, тяжело дышащий, мешает мне повернуться и негромко призывает к терпению:
— Молчи, молчи…
Но как я могу молчать, если это тело мое кричит?
Должно быть, оно кричит долго, нескончаемо долго, потому что кто-то рядом вздыхает, и робкий женский голос говорит:
— Господи… Или зажечь? Пусть погорит, пока не уснет.
Шорох в темноте, возня и рассудительный мужской голос:
— Какой набалованный!
Опять кто-то вздыхает, но уже по другую сторону от меня. И появляется огонек. Он горит в темноте торопливым пламенем, перекочевывает на крохотный фитилек и замирает на нем. Теперь красный светлячок родился снова, и мне есть, на что поставить глаза. И я смотрю на него долго, очень долго, и вижу, как огонек освещает под собой маленький стеклянный пузырек и кусочек проволоки, на которой он подвешен в пространстве — но больше он ничего не в силах осветить.
Не он, но моя память осветит то, что, оказывается, и тогда уже существовало. Печку, истопленную на ночь так, чтобы она не совсем остыла к утру — нашу спасительницу этой страшной и бесконечной зимней ночью и бесчисленными другими ночами. Те телогрейки и прочее старое тряпье, что было уложено на нее. Нас: бабушку, материного брата, приехавшего в гости и меня, плотно лежащих на печи. Железную койку рядом, ледяно-холодную, где спит, прижавшись боком к нагретому щитку печи, надрывно кашляющая мать. Сверкающий лед на задней стене — когда топили печь, его верхняя граница ползла вниз, а потом снова медленно повышалась, достигая к утру потолка. Замерзшую воду в ведрах, стоявших на лавке у двери. Весь тот мир, в который я пришел неизвестно зачем и отчего, а, скорее всего — по родительскому легкомыслию.