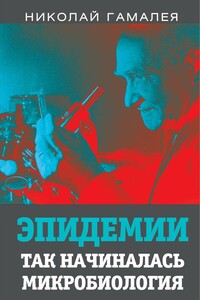Знание-сила, 1998 № 02 (848) | страница 20
Интересно получается: завзятых материалистов, гоняющихся за единственной объективной истиной, не слишком интересует «материал» истории — сам источник и его автор. А историк-идеалист не стремится воссоздать нечто недоступное, идеальное; он работает с источником, но рассматривает его как «реализованный продукт» психики человека прошлого.
И понять этот источник можно исходя не из какой-нибудь социальной теории (например, общественных формаций), а исходя из принципа «признания чужой одушевленности», который разрабатывался в философской мысли рубежа XIX - XX веков.
— И смысл возникает из встречи чужого сознания, воплощенного в источнике, с нашим вопрошающим сознанием, из их соединения?
— Верно. Но когда эта идея возникла впервые, еще не было Фрейда и фрейдизма. И если ты признаешь чужую одушевленность, воплощенную в источнике, идеалом работы с ним становится такое его понимание, как будто ты сам его создал. Другими словами, понять прошлое как самого себя. Потом учение Фрейда вышло за пределы медицины, было осмыслено философами — и подобный идеал был просто снят как совершенно недостижимый: человек и сам себя до конца понять не может...
Начали искать явные следы неявного, чтобы и сосчитать можно было, и статистическую закономерность установить — не абсолютную и заранее заданную, а именно статистическую — и восстановить по этим кривым колебаниям рождаемости, цен и еще чего-то вполне обычного ментальность, коллективное подсознательное, стандарты поведения, мифы, ценности, управляющие обществом, — все это не менее непреложно, чем законы классовой борьбы. Знаменитая историческая школа, группировавшаяся вокруг французского журнала «Анналы», очень много сделав для «очеловечивания» исторической науки, в конце концов тоже оказалась в кризисе.
— И что же сейчас? Постмодернизм, как и во всей культуре в целом?
— Постмодернисты говорят или о равенстве создателя источника и его нынешнего интерпретатора-читателя, или даже о приоритете читателя, который становится как бы соавтором. В этом есть, конечно, глубокий смысл, но есть и большая опасность потерять одну из сторон диалога с прошлым. Тут ведь можно дойти до полного нигилизма и сказать, что никакой науки истории нет вообще, а есть лишь искусство и творчество, да еще мое индивидуальное понимание: как кочу, так и понимаю. Другой понимает по-своему, и наши прочтения абсолютно равноправны.
Но есть и другой вывод из постмодернистского постулата: читатель может глубже понять автора, чем он сам, потому что читатель находится в другой точке эволюционного целого, он видит культурную перспективу — значит, он должен воспользоваться своим преичущест- . вом для того, чтобы глубже понять источник. Именно его автора увидеть, а не только свою рефлексию о нем. В этом — отличие современного научного подхода от того, который доминировал, скажем, в начале нашего века.