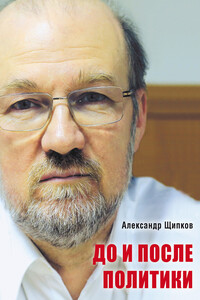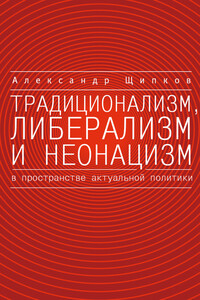Социал-традиция | страница 36
Самая распространённая точка зрения на модерно-либеральный тип знания сводится к тому, что он порождён духом рациональности XVIII столетия и постепенно «цивилизует» общество. При этом во главу угла поставлено не служение или спасение души, а «разумное» социальное устройство — баланс сил, гарантия прав, система сдержек и противовесов. Всё это стало возможным, поскольку, как считали просветители, уже не сдерживалось церковными предрассудками. От этих предрассудков Европу, по мысли апологетов либерализма, избавила французская революция, создавшая, правда, культ «Верховного существа», но при этом разделившая светскую власть и власть духовную, что также представлялось признаком переустройства общества на разумных основаниях.
При этом молчаливо предполагается, что сакральность уходит из властных практик и институтов вместе с клириками в храмы и алтари. Светская же власть становится прозрачным механизмом, помогающим соотнести интересы всех социальных игроков между собой. Общественный организм при этом как бы уподоблялся образам знаменитого трактата философа Ж. О. Ламетри «Человек-машина» («L’homme machine»)[27]. Вот только субъект предполагался не единичный, а коллективный. Не «человек-машина», а «общество-машина».
Попытка представить общество как «общество-машину» (именно представить, а не превратить в силу утопичности такого намерения) не была случайной. Уподобление «машине» как раз и позволяло скрыть глубинную религиозность либерального общества.
Нет ничего удивительного в том, что у авторов философско-правовых концепций в XVII–XVIII веках возникает желание представить общество как «общество-машину». В текстах философов, определивших мышление XVIII века, трудно отыскать аналог тертуллиановскому «credo quia absurdum», этому проведению границ непознаваемого, границ метафизики. В отсутствие таких границ всё становится метафизикой. Сам проект Просвещения и весь его интеллектуальный мир, если смотреть на них из постмодернистской перспективы, напоминали грандиозную утопию. Картезианское «cogito ergo sum» становится подлинным символом веры рационализма, символом веры новой эпохи — эпохи модерна.
Вера в Просвещение имеет в некотором смысле свою «Священную историю», а именно концепцию Прогресса и разумности, которая прочитывается как освобождение от «ветхозаветного состояния» религиозности. Причём Прогресс мыслится не в последнюю очередь как социальный, как правовые идеалы свободы.