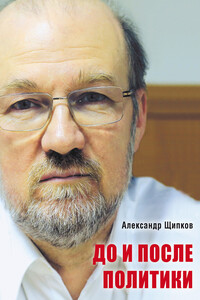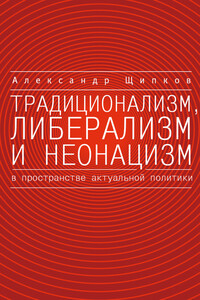Социал-традиция | страница 33
Это строй, при котором многие социальные институты, включая правозащитные, превращаются в мини-корпорации. Как в кафкианских фантасмагориях, они самодержавны, свободны от общественного контроля, ангажированы крупными экономическими и политическими игроками. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…»
Добросовестный анализ философии Нового времени, осуществлённый из перспективы современности, даёт интересные результаты. В рамках этой философии естественное право и идея универсальной юрисдикции выполняли и выполняют до сих пор роль метанарратива. При этом часто молчаливо принимается на веру, что модерн и его идеологическая парадигма вечны. В этом допущении невольно сходятся все философы лоялистского склада, от Фукуямы («конец истории») до Хабермаса («незавершённый модерн», то есть бесконечно длящийся). Но помимо детской веры в историческое бессмертие модернизм включает в себя и веру в собственное совершенство — вопреки очевидным фактам.
Указанный метанарратив содержит внутри себя ряд глубинных противоречий. Например, он предполагает абсолютизацию и экспликацию двух взаимоисключающих понятий — «общечеловеческие ценности» и «частная личность». Этот парадокс также хорошо виден, если задать апологету современного монетарного гуманизма вопрос: откуда в условиях плюрализма (равноценности разных «частных» взглядов) могут взяться «общечеловеческие ценности», как сочетаются эти два понятия?
Некоторые исследователи, например А. Ашкеров, связывают идею общечеловеческих ценностей с «самоедским мировоззрением» — с «представлением о том, что мы носителями “общечеловеческих” ценностей не являемся, их определяет кто-то другой… Достаточно просто признать приоритет этих ценностей над своими, и нас тут же примут за “своих”. Мы тут же станем частью мировой цивилизации». Однако «чем больше мы делегируем право определять “общечеловеческое” кому-то другому, тем меньше “общечеловеческого” (и просто человеческого!) находят в нас. Заканчивается всё тем, что “нас” попросту перестают воспринимать, а наше “мы” лишается любых атрибутов экзистенциальной неповторимости. В итоге получается: говоря об общечеловеческих ценностях (в том числе и о России как “общечеловеческой ценности”), мы заведомо лишаем себя возможности того, что можно назвать словом “самоопределение”»[23].
В этом отказе принимать в расчёт собственную суверенность, по мысли автора, и заключается принцип идеологического самоедства. Понятно, что элементы базовой мировоззренческой оппозиции «своё» и «чужое» при этом меняются местами. «Чужое воспринимается как непреложно позитивное, а своё беспощадно третируется: “везде хорошо, где нас нет…” <…> Любые позитивные черты в себе мы признаём только в том случае, если они одобрены кем-то со стороны. Более того, если сами процедуры одобрения уже апробированы и давно получили санкцию на применение. И по сей день на нас строго взирает Большой Брат»