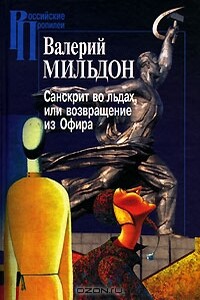Страстная односторонность и бесстрастие духа | страница 52
Я тоже не знаю. Меня спрашивают: «Как вас писать на афише?» Я не знаю. В конце концов люди сами решили: я философ и культуролог. А может быть, эссеист? Но эссеист – это опять человек, который не знает. Не знает и каждый раз ищет, как подойти к текучей, ускользающей истине. Традиция? Но их много, и я живу в общем поле нескольких великих традиций; да и в одной традиции – сколько есть толкований! Хотя бы того же Евангелия…
Фаваз Турки в «Дневнике палестинского изгнанника» описывает странное чувство, которое он испытал, сбросив пиджак и облачившись в бурнус: это было наслаждение, близкое к сексуальному. Такое наслаждение дает многим кипа, или сарафан, или стиль, искусственно выстроенный по словарю Даля. А мне совершенно не хочется никакой внешней определенности. Я ищу не внешнего, а внутреннего канона, состояния чистого зеркала, готового отразить все, что есть, так, как оно есть. А мое «я» и мое «мы» при этом непременно вылезут, скажутся в языке, в круге воспоминаний, привязанностей. Как-то я обмолвился: думайте о Боге, пишите по-русски – вот и получится русская культура. Открытая каждому, как открыт читателю в Англии и в Японии Достоевский, – но невольно, без намерения русская. А все, что у Достоевского с намерением, то слабо и только мешает.
Мои долгие годы, прожитые в России, как-то сказываются в том, что я пишу. Так же, как полузабытые первые семь лет жизни в еврейской Вильне. Так же, как любовь к стольким европейским писателям и художникам, что мне их трудно перечислить, и к индийской мысли, к дальневосточной живописи… Я не безродный космополит, я космополит многородный. Я не менее полиэтничен, чем Евразия. Я не знаю, кто я такой в жестком, паспортном, идеологическом смысле слова. И не знаю, что меня привязывает к этой стране, из которой я свободно мог уехать, лет двадцать тому назад, и не уехал. Может быть потому, что здесь, в этой культуре, то есть в этом узле мировой культуры, я лучше чувствую всю сеть. И мне легче быть самим собой. Не внешне легче. Внешне трудно. Но внутренне легче.
Это, впрочем, лично мое решение и не указ другим. У меня нет детей, а собственная шкура все равно дырявая, риск невелик – в 73 года. А как быть тем, кто помоложе и может начать жизнь сызнова? У кого есть дети, внуки?
Осенью в Коктебеле меня спрашивал знакомый писатель, человек лично мужественный, – не совершает ли он преступление перед внуками, что остается? Я отвечал невнятно (дело каждого; за другого не выберешь). Но вечером (мой знакомый уже уехал), сидя у моря, в тишине, решительно ни о чем таком не думая, я вдруг услышал изнутри: «Если «Память» не запретят, то все евреи уедут». И уже потом, рассуждением добавил: «Все, кроме парализованных стариков и старух». И нескольких идиотов вроде меня.