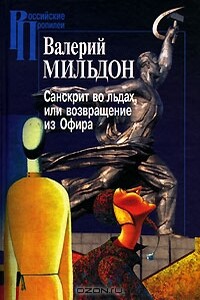Страстная односторонность и бесстрастие духа | страница 48
Через день я узнал, что на рынке крупные купюры три недели не берут. А я оказался в дураках. Пришлось ездить, хлопотать. Потерял два рабочих дня. Многие потеряли больше.
Ночью я плохо спал. Не потому, что боялся потерять деньги. Не такие уже большие. Неприятно было остаться в дураках – но опять не настолько, чтобы потерять сон. Тут другое: выплыло старое воспоминание. В 1947 г. во время той реформы, я ждал удара со всех сторон. Меня исключили из партии за антипартийные высказывания, я нигде не мог устроиться, и весь мир был против меня. Почему-то я вообразил, что реформа непременно должна ударить по мне лично. Я снял деньги – последние военные сбережения, полторы тысячи – со своей (отмеченной печатью рока) сберкнижки (где что-то уцелело бы) и послал по почте маме… Через некоторое время я получил от мамы обратно 150 рублей. И вот я живо вспомнил все свои тогдашние годы, после исключения из партии и до ареста. Самые скверные годы; мне стало лучше на Лубянке, в Бутырках, в лагере. За решеткой я почувствовал себя дома. В плохом доме, но все-таки в доме, а не на улице в чужом городе с чужим языком и без денег, вынужденный стучать наобум в разные двери – и знаешь, что ни одну не откроют. Вдруг все потеряло цену и ты выпал из мира, в котором что-то значил, и оказался идиотом. Как те старухи, у которых были отложены три-четыре сотенные на похороны.
Утром поехал к машинистке и увидел в окошко автобуса очереди стариков и старух около сберкасс (еще не открывших свои двери). И памятью 1947 года, всплывшей ночью, я почувствовал себя одним с этими стариками и старухами, и охватило пронзительное чувство боли – за всех ограбленных, за всех беспомощных. Как-то даже не за них, а вместе с ними, заодно с ними. Это не длилось очень долго, но в таких состояниях что-то рождается. Промелькнуло чувство какой-то необыкновенной раскрытости. Не через радость, как у моря или на горе, – через боль. Но может быть, все равно? В Троице Рублева средний ангел – в блаженстве отрешенного созерцания, левый погружается в страдания разорванного мира, правый выходит из него, возвращается в отрешенную целостность; и все три – одно существо, три состояния одного существа. Это целое одновременно в радости и страдании, в отрешенности и в муках неразделенной любви. «Вольно и больно, и скорбь хороша…» Перевод немного беднее подлинника: «Freudvoll und leidvoll, gedanken voll sein…» Быть полным радости, страдания и мысли. Почти как сатчитананда (бытие, познание, блаженство). Только в индийской формуле не выделено страдание, оно спрятано в бытии; а у Гёте полнота бытия складывается из полноты радости и страданья («радость-страданье, сердцу закон непреложный», – дописал другой поэт).