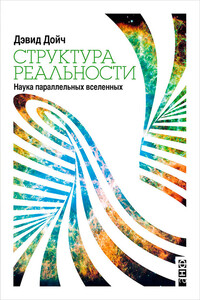Начало бесконечности | страница 83
Самая общая формулировка центрального утверждения теории неодарвинизма заключается в том, что популяция репликаторов, подверженных вариации (например, при неидеальном копировании), будет захвачена теми вариациями, которым лучше других удаётся добиться репликации себя. Это удивительная по глубине истина, которую часто критикуют либо за то, что она настолько очевидна, что её и формулировать не стоит, либо за ложность. Всё дело, как мне кажется, в том, что, хотя она самоочевидно верна, она не является самоочевидным объяснением конкретных адаптаций. Нашей интуиции больше нравятся объяснения в терминах функции или цели: что делает ген для своего носителя или его вида? Но, как мы только что видели, такую функциональность гены обычно не оптимизируют.
Итак, знания, заключённые в генах, — это знания о том, как добиться репликации за счёт конкурирующих генов. Часто гены достигают этого, попутно наделяя свои организмы полезной функциональностью, и в таких случаях их знания включают в себя заодно и знания об этой функциональности. А функциональность, в свою очередь, достигается кодированием — в генах — закономерностей среды и иногда даже эмпирических приближений к законам природы, и в таких случаях в генах непреднамеренно прописываются и эти знания. Но подлинным объяснением наличия гена всегда является то, что он добился большего числа репликации себя самого по сравнению с генами-соперниками.
Подобным же образом могут эволюционировать и необъяснительные знания человека: эмпирические правила передаются следующим поколениям не полностью, а те, которые в итоге остаются, необязательно оптимизируют соответствующую функцию. Например, изящно зарифмованное правило запомнят и будут повторять скорее, чем более точное, но написанное прозой и нескладно. К тому же человеческие знания никогда не являются совершенно необъяснительными. Всегда есть как минимум фон допущений о реальности, по отношению к которому понимается то или иное эмпирическое правило, и этот фон может сделать правдоподобными некоторые ложные правила.