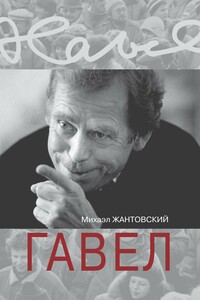Лифшиц / Лосев / Loseff. Сборник памяти Льва Лосева | страница 73
Так или иначе, Леша прилежно прослушал все до одной лекции Гринберга. Не знаю, получил ли он от этих штудий то, чего ожидал. Возможно, они помогли ему как редактору и аналитику. Но как поэт он превосходно обходился тем, чем его наделила природа: умением слушать, слышать и превращать услышанное в поэтическую речь:
Так – легко и игриво – начинается «В прирейнском парке», чтобы через строфу перейти в размышление об одном коварном свойстве музыки – о ее потенциально опасной власти над человеческой душой:
Столь же беззащитным перед музыкой оказывается у поэта и зритель оперного спектакля:
В русской литературе мне помнится лишь одно сочинение, «Крейцерова соната» Толстого, где музыка – «страшная вещь», ибо она способна гипнотизировать людей, бессовестно манипулировать ими. Стихотворение «В прирейнском парке» включено в цикл, полемически озаглавленный «Против музыки». Сотни поэтов, предшественников и современников Лосева, неизменно выступали «за музыку», накручивали на нее романтические кружева, превозносили, восхищались, провозглашали высшим из искусств. А тут черным по белому – «против»…
В Лешиных стихах сколько угодно такого рода дерзостей, резких выходок, эпатажа. В жизни он себе этого не позволял, был неизменно сдержан и деликатен. Если иронизировал и насмешничал, то над самим собой. На моей памяти он лишь однажды изменил этому правилу, причем его неожиданный выпад угодил рикошетом в автора этих строк. Дело было все в том же Норвиче, я вел вечер памяти Окуджавы, выступавшие ностальгически вспоминали о встречах с Булатом и его песнями, говорили о его вкладе в «гитарную поэзию» – один из потоков независимой, неофициальной культуры послесталинской России. Слово попросил Леша и с несвойственной ему твердостью в голосе начал: «Должен признаться, что я не люблю гитарную поэзию». По залу прошуршал ветерок недоумения. «Но это не значит, что я не люблю Булата Окуджаву», – продолжал оратор и заговорил об ушедшем поэте взволнованно и тепло, и ему верилось – точно так же, как верилось пронзительным по искренности строчкам из его давнего стихотворения: «Сибирской сталью холод полоснет, / и станет даль багровою и ржавой, / магнитофон заноет Окуджавой / и, как кошачий язычок шершавый, / вдруг душу беззащитную лизнет»