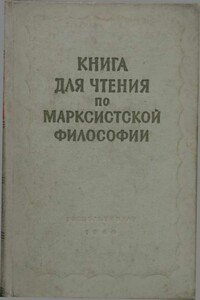Метафизика Достоевского | страница 95
Мышление, зараженное «трихинами» распада, не в силах собрать мир даже в одномерную композицию, оно целиком отдается мировому Хаосу и само, усилием сознавания и напряжением рефлексии, продуцирует искривленную онтологию. Патологию бытия, порожденную «усиленным сознаванием», Достоевский и назвал болезнью. Устами героя «Записок из подполья» (1864) болезнь эта акцентирована и даже мотивирована условиями петербургского топоса; это специфический ущерб сознания – диагноз влияния ментального климата Невской Столицы как Умышленного Града. Вот эта знаменитая сентенция: «…Слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные)» (5, 101).
Речь идет не просто о гнозисе, на себя замкнутом, но о претензии мыслительных агрегатов на приоритет онтологического зодчества. 9 сентября 1865 г. Достоевский записал: «Чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. Пропорционально накоплению сознания теряет он и жизненную способность. Итак, вообще: сознание убивает жизнь. <…>…Сознание хотят нам выдать за жизнь. Но сознание идет иногда еще дальше и еще смешнее; это иногда оно хочет заменить жизнь теориями о ней, основанными на знании, прямо вытекшими из знания» (20, 196).
Энтропийное сознание есть дитя Ничто, оно непредсказуемо и агрессивно. Интенция разрушения превозмогает в нем возможности гармонизации бытия. Гносеологическая самозаконность вырождается в бунт против здравого смысла и эвклидовой геометрии, а в смысле нравственном нудит к преступному нормотворчеству. Нет ничего опаснее идеи, развернувшей свою активность за пределами категорического императива и вдали от Другого. Овладевая людьми углового уединения и занавешенного туманом горизонта, она торит путь к человекобожескому энтузиазму и к торжеству на абсурде выстроенных реальностей.
Чтобы эти реальности могли претендовать на подлинность, им нужна презумпция подлинности. И вот тут-то срабатывает механизм дьявольского мимесиса: мимикрия, ибо ничего, кроме подделок, Обезьяна Бога придумать не в состоянии.