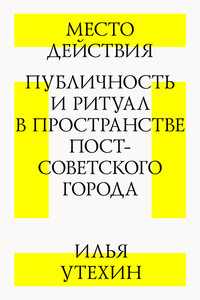Метафизика Достоевского | страница 71
Эстетизм леонтьевского типа, как всякий эстетизм, выстраивающий мир в композицию, приемлемую его единственному созерцателю, не в состоянии извлечь из понимания Достоевского ни конфессиональных, ни антропологических выводов. Любовь у Леонтьева – или дистанцированная от конкретного человека эмоция жалости-сочувствия (с хладнокровным сознанием творимого при этом добра), или эгоистский эрос-присвоение, в котором нет уже ни жалости, ни сочувствия, а есть конструируемая в «объекте» рациональная эстетическая композиция. В эросе Леонтьева нет «другого» как автономной ценности (и как единственной ценности Божьего мира), т. е. того, о признании которого так много говорил Вл. Соловьёв: «Смысл человеческой любви есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. <…> Человек, будучи фактически только этим, а не другим, может становится всем, лишь снимая в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого. Этот может быть всем только вместе с другими»[133]. Углубление этой мысли о «другом» как объекте (или источнике) нравственного спасения мы найдем на всех этапах развития философско-религиозной традиции толкования Достоевского – от В. Розанова и А. Волынского до С. Франка и М. Бахтина. Философская критика не уставала комментировать громадное значение открытой и художнически обоснованной Достоевским нужды в «другом» как исконной человеческой потребности, которая находит свое выражение и в диалогической фактуре мышления, и в театре внутренних «я», в онтологических процедурах утверждения личности в глазах и слове личности «другого». Перечень обнаруженных критиками аспектов «другого» необозрим. Достаточно сказать, что выросшая из критики Достоевского философия человека развивалась по преимуществу как философия «другого», а философия эроса – как диалог «двоих перед лицом Третьего» (Бога), по формуле Флоренского.
«Любовь» в прозе Достоевского – менее всего элементарная пружина классической фабулы, не интрига и не двигатель сюжета, а тема жизни внутреннего человека-героя. Эрос, созидающий кровное общение душ, и эрос – сублимат бессознательного; эрос – провокатор бесконтрольных поступков и эрос – человеческий гений приязни; эротическая филантропия и эрос демонизованный – эти маски и личины любви, ее подлинные и мнимые обличил могут быть персонифицированы и образовывать контрастные антитезы (вроде «Мышкин / Рогожин»), а могут предстать и в аморфном смешении того, что этика заботливо разделяет (таковы Свидригайлов или Федор Павлович). К эротическим монстрам Достоевского религиозная мысль проявила особое внимание. Свидетельство тому – хотя бы статья Л. Карсавина «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви» (1922). Шокирующее читателя именование работы мотивировано самой фактурой сознания героев: семейство Карамазовых рассмотрено как разнородно-хоровая идеологическая репрезентация. Из темной стихии Эроса прорастает целое древо проясняющих его смысл сознаний. «И острый ум Ивана, и необыкновенное чутье Алеши, и цинически прозорливая расчетливость Смердякова вырастают из одной и той же вещей и многообразной стихии их отца» (О Дост., 266). Установка на героя-идеолога (чуть раньше обоснованная Вяч. Ивановым и Н. Бердяевым, а чуть позже – А. Штейнбергом и М. Бахтиным) позволила Карсавину пройти по ярусам мировоззренческой постройки Достоевского, чтобы показать читателю, с какой трагической необходимостью в самых ответственных узлах ее композиции и в составе несущих ее свод центральных опор сочленены похоть и святость, грех и красота, жажда целостности и порыв к разрушению, разврат и невинность, эротическая дерзость тела и жертвенный эрос души. Карсавин, сохраняя ироническую дистанцию по отношению к герою своего эссе, говорит о прямых соответствиях телесной похоти рациональному эротическому любопытству (поэтому Федор Павлович назван «развратным аналитиком» (О Дост., 271)), безобразной стихии влечения – жажде насилия и мучительства. Принуждение и жертвенность неотторжимы в темной глубине Эроса. Еще более определенно скажет об этом другой комментатор Достоевского – Б.П. Вышеславцев в статье 1932 г.: «Есть дары любви, которых никогда не должна добиваться самая отважная рыцарская воля. Эрос мстит жестоко за всякое принуждение. В любви все самое ценное