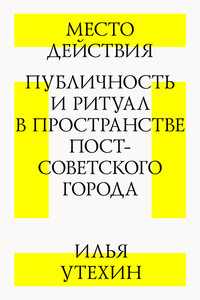Метафизика Достоевского | страница 60
– в обытовлении пограничных состояний сознания. Для героев большой прозы Достоевского «мистическое», «интересное», «иррациональное» и «трансцендентное» входят в состав повседневной реальности, а идея «непосредственного познания» стала еще и принципом восприятия текста, что окончательно упразднило дистанцию меж героем, автором и читателем;
– в переакцентуации так называемых «вечных вопросов»: они переведены в ранг сенсационных. Читатель тем самым приглашен к духовному сотрапезничеству с мировым философским опытом. Достоевский отодвинул действительность своего века на дистанцию, достаточную для объективного философско-исторического анализа и прогноза. Мерой дистанции и самой инстанцией понимания оказался у него читатель-соавтор – метафизический собеседник и смыслотворящий «эйдос» текста.
Вероятно, этот список можно продолжать еще долго.
Достоевский создал мир, населенный не только читателями-героями, но и героями-читателями, героями-писателями и героями-слушателями.
Экспериментом особого рода стал «Дневник писателя», в жанрово-речевой фактуре которого отчетливо прояснилась разница между прямым публицистическим словом риторики и суггестией повтора, намека, косвенного внушения, уловок несобственно-прямой речи, с ее поэтикой оглядки и приманивания. Но наследники Достоевского запомнили не экстремистские жесты оратора (вроде: «Константинополь должен быть наш!»), а свое соучастное присутствие среди спорщиков в гостиной Епанчиных, в келье Зосимы, а трактирах и на папертях или в том промозглом питерском тумане – меж двумя освещенными окнами, за которыми два бедных человека пишут друг другу письма. Кто их доставляет? Не читателю ли остается здесь вестническая роль почтальона? «Вестник» по-гречески – «ангел». Ему дана высокая роль горнего Благовещенья для имеющих уши в дольнем. Читатель-герой Достоевского получает сакральную санкцию ангелического сочувствия жертвам трагической жизни. И он, этот возвышенный до трагедии читатель-герой, отвечает автору доверием: «Достоевского надо читать, когда мы глубоко несчастны. Тогда мы больше не зрители. Не сибариты и не критики, а бедные братья среди всех этих бедолаг, населяющих его книги, тогда мы страдаем вместе с ними, затаив дыхание, зачарованно смотрим их глазами в водоворот жизни, на вечно работающую мельницу смерти». И тогда – «это уже не выдумка, это уже не литература»