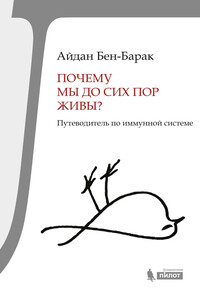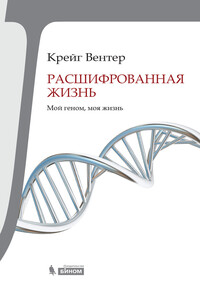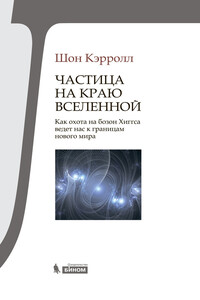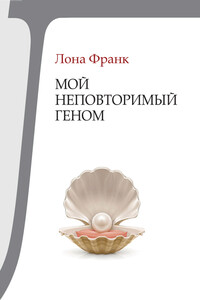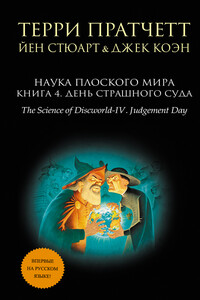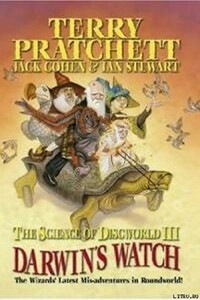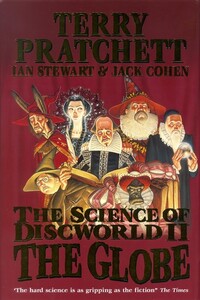Шанс есть! Наука удачи, случайности и вероятности | страница 62
К примеру, одной из самых модных областей нейробиологии считается ортогенетика. Она позволяет исследователям с высокой точностью управлять поведением групп нейронов. Работая в калифорнийском Стэнфордском университете, Эд Бойден и его коллеги открыли ключевую технологию в этой сфере – применение светочувствительных белков из водорослей с целью возбудить электрическую активность нейронов. Он и его коллеги (уже в начале исследований мыслившие сходно: вот первый проблеск удачи) годами думали над тем, как использовать свет для управления нейронами. Они наткнулись на статью о водорослях (еще одна удача) и решили попытаться встроить гены водорослей в клетки мышиного организма.
«И это сработало, можно сказать, с первой же попытки, – вспоминает Бойден, работающий теперь в Медийной лаборатории Массачусетского технологического института. – Кто мог предполагать, что эти молекулы из водорослей, то есть из совсем иных организмов, будут так хорошо взаимодействовать с нейронами? Вот еще один счастливый случай». Как позже обнаружили эти ученые, им повезло даже больше, чем казалось: использовавшийся ими белок из водорослей требует еще одной молекулы для нормальной работы в их исследованиях, а мозг млекопитающих как раз производит такие молекулы – по причинам, совершенно не связанным с предметом эксперимента.
Все равно случай здесь – лишь половина дела. Бойден и его коллеги заранее имели в виду идею контролирования нейронов, а значит, их ум был, по Пастеру, «подготовленным».
Возможно, наиболее знаменитый и легендарный пример счастливой случайности в науке – открытие пенициллина Александром Флемингом. В 1928 году в его лаборатории (находившейся в лондонской Больнице святой Марии) заплутавшие споры грибка попали в отвергнутую ученым бактериальную культуру. Взглянув на чашки Петри несколько недель спустя, Флеминг заметил кольцо вокруг растущей колонии бактерий. В этом кольце нечто неизвестное убивало всех бактерий. Позже это «нечто» идентифицировали как пенициллин.
Но открытие Флеминга появилось не на пустом месте. Как известно, на протяжении предшествующих ста лет другие ученые, в том числе Пастер, подмечали, что некоторые виды плесени препятствуют размножению бактерий. Сам Флеминг не один год искал вещества, убивающие бактерий, и еще до истории с пенициллином нашел одно – лизоцим, фермент, который он выделил из носовой слизи простуженного человека. Подготовленный ум Флеминга соединил нужные точки, но все равно потребовался еще десяток лет, прежде чем другие исследователи, Говард Флори и Эрнст Чейн, придумали, как превратить эту плесень в лекарство.