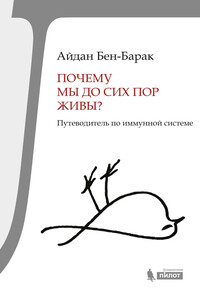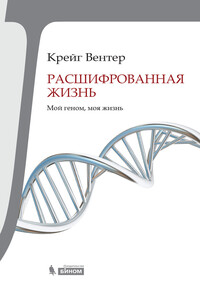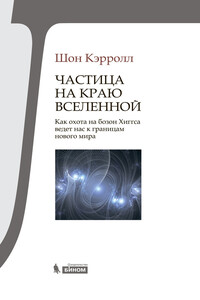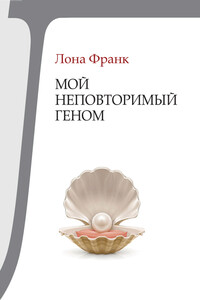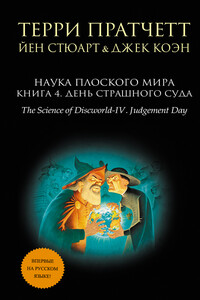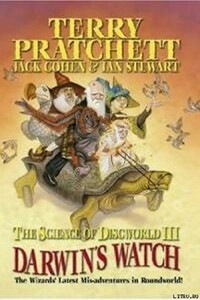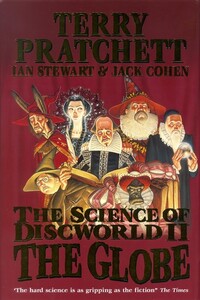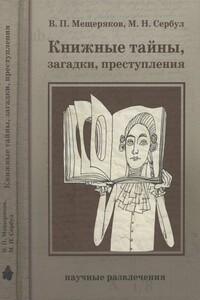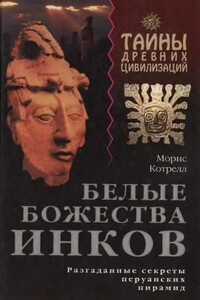Шанс есть! Наука удачи, случайности и вероятности | страница 114
Когда Льюис Спарджин из Университета Восточной Англии (Норидж) стал изучать эти популяции, он ожидал найти экологические различия, которые объяснили бы такие вариации, но отыскать их ему не удалось. Более того, он пришел к выводу, что физические различия – не результат действия естественного отбора, а всего лишь следствие небольшого количества «основателей»: иными словами, исторической случайности.
«Эффект основателя» способен порождать новые виды даже вообще без естественного отбора. Дэниэл Мэтьют, ныне работающий в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, взял крупную популяцию дрозофил и создал тысячу новых популяций, поместив в идентичные лабораторные сосуды по паре мушек: иными словами, каждая новая популяция вначале состояла из одного самца и одной самки. Большинство таких популяций вскоре вымерли из-за близкородственного скрещивания (инбридинга). Однако в трех из уцелевших популяций основатели производили на свет достаточно «разное» потомство, менее склонное к инбридингу с более крупной «родительской» популяцией, а это первый шаг на пути к созданию нового вида.
Возможно, подобные эффекты объясняют, почему острова Гавайского архипелага отличаются таким огромным разнообразием видов дрозофил. Собственно, некоторые биологи вообще убеждены, что видообразование – почти всегда процесс случайный, а не вызванный естественным отбором.
Еще больше подтверждений существования пределов естественного отбора приносит исследование геномов, которые буквально усеяны результатами (и продуктами) деятельности случая. Несмотря на многочисленные заявления об обратном, по большей части геном человека представляет собой всего-навсего мусор. Этот мусор накапливался из-за того, что у естественного отбора не хватало сил его выбросить, утверждает Майкл Линч, биолог-эволюционист из Индианского университета в Блумингтоне. В малых популяциях даже слегка вредоносные мутации способны распространиться по всей популяции просто из-за случайных факторов.
Имеет ли значение такой генетический дрейф? Имеет. По крайней мере, иногда. Так, Джо Торнтон из Чикагского университета перевел воображаемые стрелки часов назад и реконструировал эволюционный процесс, чтобы посмотреть, могла ли эволюция обернуться по-другому. Вспомните «Парк юрского периода». Правда, Торнтон воссоздавал не вымерших животных, а древние белки. Его научная группа начала работу с живых позвоночных, причем каждое обладало своей версией гена, кодирующего белок, который, в свою очередь, способен детектировать кортизол – «гормон стресса». Сравнивая версии генов, группа смогла выяснить, как этот белок эволюционировал на протяжении сотен миллионов лет – из другого белка, который умел обнаруживать другой гормон.