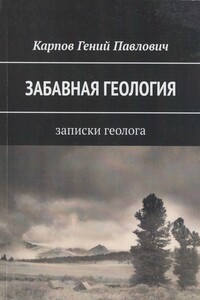На Банковском | страница 11
Тогдашние законы не позволяли расслабиться – только медаль за гимназию давала еврею право на поступление в университет, и только диплом о высшем образовании позволял жить в столицах, остальным полагалось проживать в пятнадцати окраинных губерниях, за чертой оседлости. А чтобы учащихся евреев не оказалось слишком много, действовал закон о трехпроцентной норме, ограничивающий количество лиц иудейского вероисповедания в учебных заведениях тремя процентами.
Впоследствии, при получении университетского диплома, Шуре предложили перейти в христианство, чтобы существенно облегчить себе жизнь. Дедушка отказался, сказав, что примет крещение, только если полюбит православную и она поставит это условием брака. Как в воду глядел – бабушка была русской. Правда, замуж вышла без всяких условий.
Из дедушкиных и Мишиных рассказов о детских играх я, маленький, запомнил главным образом оловянных солдатиков – вероятно, потому, что в моем-то детстве их не было: они появились только к концу пятидесятых и были грубыми и неинтересными. Может быть, и те, немецкие (Миша говорил – нюренбергские), дореволюционные, продававшиеся дюжинами в лубяных коробочках, ничего особенного собой не представляли, но в моем детском воображении они были прекрасны. И еще там фигурировала какая-то неопушечка, стрелявшая пистонами, – из нее вылетали резиновые пульки. При желании их можно было заменить ягодами рябины. Юные Штихи хулиганили: стреляли по окнам флигеля, стоявшего напротив, во дворе. За окнами жило семейство немцев с толстыми розовыми детьми. Думаю, что после попаданий стекла все же оставались целыми, но лица озадаченных немцев дядя Миша спустя сорок лет изображал уморительно.
С осени 1894 года Штихи стали соседями Пастернаков – Леонид Осипович получил квартиру при Училище живописи, ваяния и зодчества, от которого до Банковского переулка меньше двухсот метров. Шура с Борей были одногодками, они часто встречались, вместе играли. Младший брат Бориса, Александр, вспоминает об изобретенной друзьями сложной игре в морской бой с оловянными корабликами.
До меня из их детства дожила только книжка «Макс и Мориц». Я ее помню зрительно, потом она куда-то пропала. Стишки и картинки были смешные, но очень жестокие. Помню только:
Книжка сильно контрастировала с педагогически правильными стихами Барто, Чуковского и Маршака, на которых воспитывали наше поколение. Наверно, Олег Григорьев, придумавший в начале тысяча девятьсот восьмидесятых жанр «садистских стишков», тоже читал в юности про Макса и Морица.