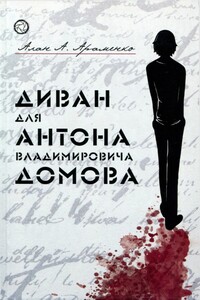Убить двух птиц и отрубиться | страница 96
>
XXIII
Когда я писал эту диатрибу от лица Фокса, я слышал его слова, его голос, и мне было весело. Но, закончив, я снова почувствовал подступающее одиночество. Не хотелось себе в этом признаваться, но мне ужасно не хватало этого хулигана и мечтателя. И еще больше не хватало Клайд, хотя я изо всех сил старался не думать о ней. А больше всего я тосковал по той теплой атмосфере, которая возникала, как по волшебству, как только мы все трое собирались вместе. Рассказывать про них было совсем не то, что принимать участие в их безумствах. А что если они подались в другой город или даже в другую страну, и мы больше никогда не увидимся? А может быть, Трамп решил все-таки задать им жару и завел против них дело? Или просто их цыганские души потянулись куда-нибудь за город, а может, и за океан? Я тогда, конечно, потеряю десять тысяч залога, которые внес за Фокса. Но я потеряю не только эти деньги, а гораздо больше — в той валюте, которую нельзя ни скопить, ни сосчитать. Свободные птицы упорхнут в чужое небо, а я останусь здесь, чтобы собирать осколки нашей злосчастной эфемерной дружбы и пытаться склеить их — слово за словом — в своем романе. Занятие унылое, одинокое, но мне от него никуда не деться. Вот и все, к чему я пришел, — признавался я сам себе с грустью. Теперь у меня есть то, о чем, видимо, всегда мечтала часть моей души: писательская жизнь. Романтическая, монашеская, одинокая, безумная, выпотрошенная, бескровная, пустая, чужая, меланхолическая, несчастная, безвкусная, тщетная, мучительная — но в то же время странно привлекательная писательская жизнь. Живи я сто лет назад, я наверное, сидел бы в холодной парижской мансарде. Или в сыром, продуваемом ветрами замке где-нибудь в Шотландии. В любом случае — где-нибудь на холоде.
Поздним вечером я сидел дома и думал о Клайд. Вспоминал ее стремительные рукопожатия. Вспоминал ее соблазнительную и насмешливую улыбку, обещавшую так много из того, что я теперь, наверное, никогда не получу. Вспоминал, как все вокруг вспыхивало радостью, как только она называла меня «солнышком».
Книги быстро покрываются пылью. Бумага выглядит так грустно, пока не покроешь ее буковками. Глядя на белую бумагу, чувствуешь себя, как Юрий Живаго, после того, как он потерял свою Лару: вот он стоит и смотрит на бесконечную снежную равнину. Вокруг нет ничего, кроме скорби, пустоты и белизны. Ничего, что могло бы заменить возлюбленную и друга. Но это чувство — именно то, с чего начинается писатель, художник или человек.