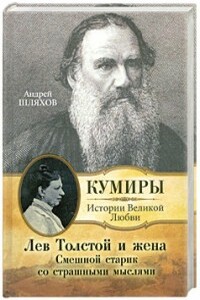Ладья тёмных странствий. Избранная проза | страница 22
Залётные миги читали отходную. После свадьбы приползла летаргия конопатых дней. Тайные заварухи с губами вычеркнуты из реестра восхищений. Картавые ночи, заволглые речи. Муж оказался стервецом с говяжьим личиком. Напевные облачения обратились в седые скучалости. Она не желала понимать тонкости семейного омерзения: прочь. Вернулась домой.
Отец задичал: от него ушла жена, часто нежничавшая с ним: кто ты? – итеэровец, потративший 20 лет на изобретение пуговицы. Надоели запиленный Шопен и мерзлая ставрида. В доме пахнет подвалом – унеслась в небытие сорокалетних вокализов.
В отсутствие Оленьки приходил бывший муж. Но Бахус не приносил веселья; была лишь догадка об асфальтовой сущности. Запьянев, борзой нахал выкрякивал несвязности: не люблю осень, рассветы и розы. Что делать на пенсии? Рисовать больничныеинтерьеры или молиться? Лично я не собираюсь отягощать собой семью… Хотят ощупать пространство, а полет в никуда осмеян… Небосклад… Ветер – невидимые волосы природы… Ненавижу балет! Истинный балет у мошек в пустотах, а не у громоздких балерин с паразитами в животах… Вопрос – инобытие сверхреальности…
К вечеру становилось людно. Приходил студентишко почитать вслух о том, как старый комар точит напильником жало. Потом ругались за лирическое овеществление фатальности, пока язык не задёргается в матерном логовище. Приходил некий молчаливец, про него ходили слухи, что он собирает фамилии тех, кто читал тексты Кумрана и Вейнингера. Был и вертлявый хохмач, доказавший на арифмометре, что Ясперс – ничтожество, а Гофман страдал астенической психопатией. При этом вывешивал на стене схемы, пояснявшие смелые открытия.
Хозяин читал немецкие стихи. Оба пьянели, Оля подходила к пианоле наиграть что-либо, а он лежал, чувство-вал-ы огня катились в нём от почек до ключиц. Шторма внутренних сражений со спокойствием молчания. Океанские волны полыханий, на которых пока уцелели несколько кораблей: два сухогруза, учебный барк, сейнер, – доносили свой призывный рокот до камней гипофиза, растекались по тройничному нерву, обжигая зев, оглушая лопнувшими каскадами радуг, ослепляя нарушением масштаба. Яростные пространства ярчайше-неистово, вспенившись, гневно вопрошали: доколе? Дрекольный стервец отвечал: до утра!
Вечерами длинными, как тропа от Мурманска до Гонконга, сидели за чаем. Варенье из малины, собранной в предгрозовую тишину, нарушенную тем, что деревенские олухи, напившись самогона из чертополоха, пели: нас мила покинула, душу с сердца вынула, ай, гоп, гоп, ай, сердце наше вынула. Хмурины на лбу у громовержца собирались, а у Ольги заблудилось в глазах лукавство и аукались с ягодой то пальчики, то зубки. Отец пришёл с базара, ей – цветовейный платок, себе – трубку-пыхтелку из глины Конского омута, там в прошлом году сом водолаза сожрал… Всё это напоминала малина, собранная в это лето за один день, памятный тем, что после грозы (песни продолжались) отец уснул с трубкой в руке на крыльце, с которого виднелось пастбище; сын его, пастух, поднимался затемно, – он в тот день повествовал странно-занятные экспромты: Почему, Ольга, носят валенки? Юг постарел! Сколько глаз у земли? Две пары! Когда снится бегемот в крапиве? Когда засолят новогоднюю ель!