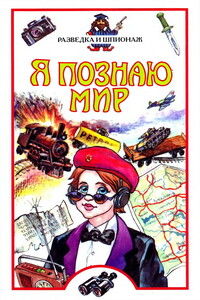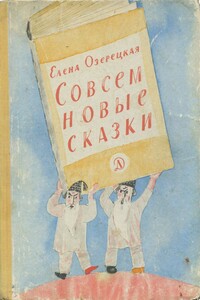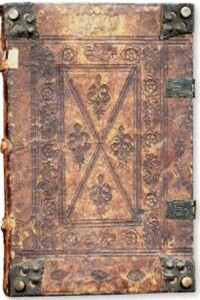Печорин и наше время | страница 46
Казалось бы, здесь нет никаких психологических деталей, описана только внешность. Но вслушайтесь в свистящие и шипящие звуки: Ш-С-С-Ш-С, пронизывающие все описание: разве они не характеризуют трусливую, жадную, опустившуюся старуху? Пренебрежительные слова с уменьшительными суффиксами: крошечная старушонка, маленький нос; дважды повторенное «вострый», «вострые» (нос и глазки); белобрысые волосы; шея, похожая на куриную ногу... Все это создает не только внешний, но и психологический портрет мерзкой старушонки.
И наконец, портрет Плюшкина у Гоголя: «Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы но заплевать; маленькие глазки еще не нотухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остреиькно морды, насторожа уши и моргая усами, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка... Гораздо замечательнее был наряд ого: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был ого халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы...»
Гоголь, как всегда, остро преувеличивает недостатки своего героя: подбородок выступал так далеко вперед, что его можно было заплевать, глазки бегали, как мыши... В портрете Плюшкина, как и в портрете старухи у Достоевского, автор не говорит о характере героя, но его отношение к этому характеру видно в насмешливом тоне, в этих сравнениях глаз с мышами, материи на халате с юфтыо, какая идет на сапоги.
Как можно сравнивать эти сатирические, насмешливые портреты с изображением Печорина, к которому автор относится очень серьезно? Можно сравнивать, потому что речь идет не об оценке героя, а о принципах описания его внешности.
Конечно, каждый из писателей, пришедших в русскую литературу после Лермонтова, внес в нее свое. Но влияние Лермонтова на каждого из них очевидно.
Мы отвлеклись от Печорина. Пока он сидит, задумавшись, на скамейке, вспомним, как была построена первая повесть романа — «Бэла». Сюжет в ней долго не начинался: путешественники встретились на горной дороге; мы прочли описание этой дороги, познакомились с природой и людьми Кавказа, выслушали суждения путешественников о природе и людях; только после этого Максим Максимыч начал свой рассказ. Но уж начавшись, сюжет развернулся, как пружина,— в нем была любовь, погоня, выстрелы, кровь... В повести «Максим Максимыч» ничего этого нет. Она, в сущности, бессюжетна: в ней происходят две встречи Максима Максимыча — с Автором и с Печориным, больше ничего. Внешних событий мало, зато внутренние напряжены и драматичны не менее, чем погоня и выстрелы в «Бэле».