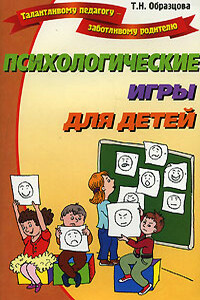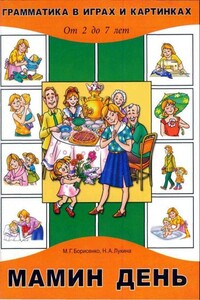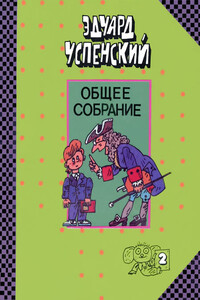Печорин и наше время | страница 27
Верный себе, Максим Максимыч не хочет подробно объяснять свою мысль и, возразив Автору, возвращается к природе — разумеется, так же сдержанно, без восклицаний. Он говорит только: «Посмотрите... что за край!»
Лермонтов, как мы ужо заметили, видит природу не только как поэт, но, может быть, прежде всего — как художник: «...под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней... направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником...» (курсив мой.— Н. Д.).
Не только цвет речки, тумана важен для художника, но и пересечения линий, контуры гор... В начало повести Автор описывал природу отвлеченно, объективно; мы вместе с ним видели горы, речки, ущелья, но авторское отношение к прекрасным картинам, которые он описывает, не было нам известно. Теперь автор уже не прячется: мы видим Койшаурскую долину его глазами; слышим ого голос, он не скрывает от нас своего восприятия природы: «...вдали те же горы, по хоть бы две скалы, похожие одна на другую,— и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно- синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовом тучи: но над солнцем была кровавая полоса, на которую мои товарищ обратил особенное внимание» (курсив мой.- //. Д.).
Максим Максимыч опять оказался прав: тихое утро скоро сменится непогодой; он призывает ямщиков торопиться. Спуск с горы немногим легче подъема: под колеса приходится подложить цепи вместо тормозов — дорога опасная: ('...направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки...».
Два извозчика — осетин и русский — ведут себя по-разно- му: "...осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями... а наш беспечный русак даже не слез с облучка!». Этот невозмутимый извозчик предвосхищает гоголевского Селнфана с его изумлением: «Вишь ты, перевернулась!» По и в Авторе просыпается та же удаль: «...мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться».
Лермонтов — как Пушкин в «Евгении Онегине», в конце третьей главы оставив Татьяну и Онегина в саду,— испытывает терпение читателя. «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?» — напоминает он читателю и все-таки не рассказывает продолжения этой истории: «...я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс- капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле». II правда — продолжение рассказа Максима Максимыча будет только через две страницы; до тех пор мы останемся на Военно-Грузинской дороге, па спуске с Гуд-горы в Чертову долину.