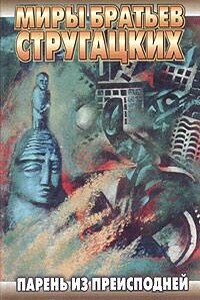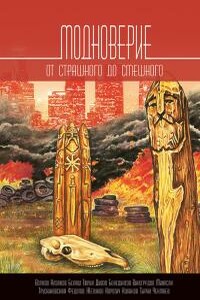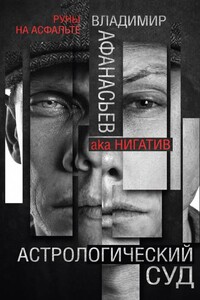Хромая судьба | страница 95
— …И с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре…
— И в животноводстве! — проорал я, чтобы остановить его.
Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил Таточку:
— Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?
— Нет, — отозвалась она, не переставая грохотать. — Его сегодня не будет. — И требовательно обратилась к сатиру: — «…в архитектуре и в животноводстве…». Дальше!
Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер «Ежеквартального надзирателя». Тот самый. С повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой.
Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мною, я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся:
— А! Феликс Александрович, — произнес он своим тихим ровным голосом. — Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул.
— Это из Чапека? — спросил я, послушно усаживаясь.
— Нет, это из Гашека. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?
— Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу…
— Более того. Литературу я очень люблю. Хорошую литературу.
— А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину?
— Помилуйте, Феликс Александрович! Мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы называть макулатурой.
— Вот-вот! — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии, — «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
Он закрыл журнал, заложивши его однако пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался сходству с портретом в коричневом томике, и поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его, и сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной.
— Феликс Александрович, — сказал он, наконец. — Я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого…
— Позвольте, позвольте! — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. — Ведь не станете же вы отрицать…