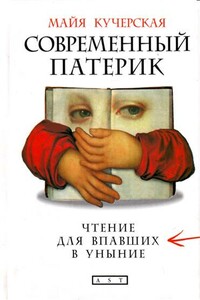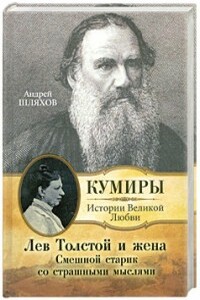Японский ковчег | страница 89
Весь ансамбль одухотворенно подхватил:
Блондинка снова сделала курбет, притопнула еще энергичней и призывно вытянула руку ладонью кверху:
повторили музыканты, завершив мелодию звучным аккордом.
Публика разразилась аплодисментами, на которые певица отвечала каскадом воздушных поцелуев и легким повиливанием атлетических бедер.
– Кто это? – спросил Мияма у Шурика Пискарева, который все еще по инерции раскачивался в такт песне, успевая понемножку отхлебывать шампанское из очередного фужера.
– Это, брат, прелесть что такое! – хохотнул в ответ порядком захмелевший Шурик. – Наш Геночка Грудко. Обаяшка, а?! Так и хочется иногда ущипнуть!
– Леночка Грудко?
– Да нет же, Геночка. Ты что, сам не видишь? Транссексуал он. Все честь по чести: сделал операцию и вышел замуж за любимого мужчину. Правда, потом развелся. Вполне эмансипе. Все верха обслуживает. И в наших кругах пользуется популярностью. Я-то сам по другой части, а здесь в зале его поклонников хоть отбавляй. Того и гляди передерутся. Сейчас он спустится – я вас познакомлю.
– Спасибо. Очень признавателен, – кивнул Мияма.
– Ага! Загорелся глаз-то! – хохотнул Шурик. – Что, гейши твои, небось, надоели?
– Да, немножко надоели, – согласился Мияма. – Хочется иногда разного образия…
– Тогда потолкуй с Геночкой. Про глобализацию.
– Почему про глобализацию?
– А потому что он глобалист. Старается охватить все страны и народы. Никого не пропускает, охальник!
Пискарев сытно хохотнул, отхлебнул шампанского и бросил в рот крохотную тарталетку с черной икрой. Доверительно потрепав Мияму по плечу, он наклонился к нему и стал нашептывать подробности, от которых у профессора по спине побежали мурашки. Вспомнились кое-какие забавы бурной молодости в токийском квартале Кабуки-тё.
– И даже сам? – недоверчиво переспросил он.
– Нет, сам этого не любит. Но зато уж в администрации резвятся. При прежнем начальстве с этим было строго, а теперь у нас гей-славяне разгулялись вовсю. Так что приобщились к мировому сообществу по полной. Хотя сами же законы принимают…
– Послушай, Шура, – начал Мияма и осекся. Ему было крайне неловко называть собеседника по имени, да еще сведенному к смешной детской аббревиатуре. И к тому же на ты. Японская душа профессора восставала против такого амикошонства, но он сумел преодолеть себя.