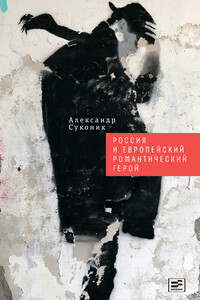Достоевский и его парадоксы | страница 99
Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, – сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливо и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров.
Вот два контрастирующих портрета как комментарий к предыдущему замечанию о жизненной ситуации героя в целом: «я-то был один, они-то были все». Только – в каком смысле один и все?
Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя… самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках.
Значит, вот в каком смысле: герой еще подростком единственный начинает мыслить и ощущать справедливость и несправедливость, еще подростком уходит в мир ценностей Высокого и Прекрасного. Между тем все его однокашники еще подростками уходят в ценности низкой реальности жизни.
Здесь возникает новая нота, верней, расширяется и уточнется нота связи Высокого и Прекрасного со словом «действительность» в социальном разрезе, и подспудно возникает все то же противопоставление системы мышления добро-зло системе мышления почитания силы, – противопоставление, которое владело сознанием Достоевского всю его жизнь и про которое я говорил, разбирая «Записки из мертвого дома». Подпольный человек еще подростком осознает свою принадлежность к системе добро-зло, как она понимается в христианской цивилизации; между тем для его однокашников добро означает успех, теплые местечки, чины (то есть силу), а зло – это неспособность обладать силой и готовность оставаться униженным и забитым.