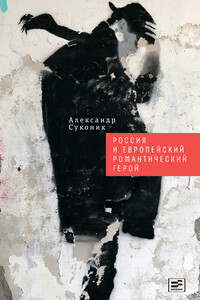Достоевский и его парадоксы | страница 71
Если в молодости Достоевский и думал бунтовать против существующего порядка вещей (тайный типографский станок), то в зрелые годы он стал националистом, защитником социального статуса кво (монархии) и «человеком толпы» с достаточно низкими предрассудками против поляков, французов, евреев, китайцев, турок и проч. (немыслимое дело для Кьеркегора и Ницше). Тут корень в том, что, в отличие от Кьеркегора и Ницше, Достоевским владел страх перед будущим, это был страх, который мог возникнуть (и постоянно возникал, и до сих пор возникает) только в России, благодаря проклятой двойственности ее положения между Востоком и Западом, а также – как следствие – отсутствию устойчивого шлейфа истории духа, какой есть у Китая или Индии. Страхом, который как раз и делает невозможным у нас появление надзвездных романтиков – о нет, Достоевский отнюдь не по своей воле выбирал не быть надзвездным романтиком, перенося упор своего творчества с философии на литературу: литература консервативней и «реальней» философии.
Но действительно ли был Достоевский такой уж культурный консерватор? То есть был ли его консерватизм так целен, как это любили выводить дореволюционные почвенники и славянофилы и как любят выводить их нынешние наследники? Он был писатель-новатор, писатель-революционер; вспомним его осторожный намек на Толстого как писателя высших классов и потому несколько отжившего писателя. Достоевский был впереди всех с его отказом от длинных описаний, стремительным темпом развития сюжета, с его принципиальным отказом от принципа похожести (основы натуральной школы), то есть, качествами, которые делали его предшественником модернизма. Кроме того, следует вспомнить его насмешливый термин «шиллеровщина», относящийся ко всему «высокому и прекрасному», как к некоему пройденному этапу юношеской наивности и романтичности. В первой части «Записок» он прямо говорит о «высоком и прекрасном» как о прошлом, которое «сильно надавило» на него.
С другой стороны, эта самая «шиллеровщина» сидела в нем до конца жизни, была частью его экзальтированного стиля. Достоевский всегда был амбивалентен. С одной стороны, в нем сидело достаточно знания человеческого «низа», чтобы относиться к прекраснодушной шиллеровщине не иначе, как с иронией, как к чему-то прошлому, к стереотипам прошлого (откуда и у него кавычки, всегда обрамляющие «высокое и прекрасное»). С другой стороны, это «высокое и прекрасное», то есть этот романтизм, было неотъемлемой частью романтической христианской культуры, и всякий уход в сторону «низа» влек за собой уход от романтизма не столько в реализм, сколько в рационализм, а рационализм Достоевский не только ненавидел – он боялся его, потому что был уверен, что это будущее Европы. Таков всегда прогресс культур, таков был в частности прогресс культуры Афин – от мифологии к Гомеру, от Гомера к рационалистической философии, для которой мифы, в частности религия, были объектом отстраненного исследования на пути поиска истины – но ничего подобного Достоевский признать не мог. Вот в каком смысле он был истинный консерватор: в нем жила тоска по первобытному обществу «людей на земле», в жизни которых разум принимает минимальное участие (чем меньше разума, тем больше веры по интуиции). А при этом, повторю, он сам был человек изощренного ума, и на него надавили стереотипы «высокого и прекрасного».