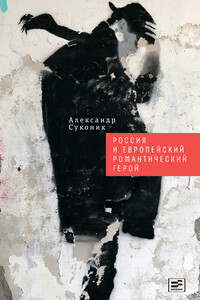Достоевский и его парадоксы | страница 66
Просуммирую сказанное и прежде всего укажу на парадокс экзистенции подпольного человека. Когда он ощущает себя внутри системы координат Добро-Зло, он, действуя как романтический писатель, прежде всего прикладывает ее к себе с весьма разочаровывающим результатом (даже насекомым не смог сделаться) и занимается литературным самобичеванием и самоуничижением. Но как только он забывает о Добре-Зле, он не только становится «больше насекомого», он обретает собственный голос, собственную уникальность и осуществляется как оригинальный мыслитель. Может ли он не знать этого? Разумеется, не может, то есть, разумеется, знает, обязан знать. Но в конечном счете он, то есть Достоевский (потому что в данном случае «он» и Достоевский это одно лицо), строит повесть таким образом, чтобы отдать верх не мысли, а литературе. Почему он (Достоевский) это делает? Если учитывать фактор идеологии (религии или атеизма, веры или сомнения в вере), ответ как будто прост и ясен (Достоевский, как известно, выбирает религию). Но о религии в повести нет ни слова, а кроме того я объявил, что в данной главе не буду касаться никаких «что» и буду говорить только в разрезе противостояния литературы и философии. Поэтому сформулирую таким образом: подпольный человек строит свои записки так, чтобы остаться в сфере литературы и в сфере отсчета Добро-Зло, а своеволие, о котором он так замечательно говорит, представить так, будто это есть отдельная побочная мысль смешного и малоприятного человека.
И надо сказать, что с точки зрения литературы, с точки зрения литературного качества, рассказчик действует безошибочно и на высочайшем художественном уровне. Даже когда герой полностью перестает говорить о себе и рассуждает на общие темы, полагаясь только на собственную систему отсчета, мы не можем забыть, что он говорил страницей раньше или не предвосхитить, что он скажет страницей позже. Вот он высказывает глубокую мысль про отсутствие твердых причин для всякого рода «честных и справедливых дел» (восстание против категорического императива Канта) и тут же оговаривается: «что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее». Мы можем пропустить последнее замечание мимо ушей, потому что понимаем, насколько его слова не переливание из пустого в порожнее… а ведь не слишком пропускаем. Какая-то капля иронического яда оседает в нашем сознании и создает впечатление эдакой личности, которая ведь какую штучку отмачивает эдаким дуриком-придуриком, а глядишь, сам-то все-ничего, мужичек-соплячок, казалось, ногтем раздавить можно, а вот поди… Действительно, тут получается слишком уж полная зависимость объективной ценности мысли от субъекта литературного героя – и таким образом литература побеждает философию.