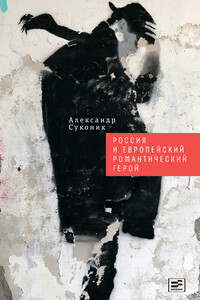Достоевский и его парадоксы | страница 102
Это будет существенное объяснение, и оно потребует расшифровки (все, что подпольный человек говорит о себе, требует расшифровки). В его желании «одержать победу» в принципе нет ничего особенного – мы все так живем и действуем ежечасно, ежеминутно, не замечая этого – кто-то из нас одерживает победы, а кто-то подчиняется победившему. Тем более, что подпольный человек одержал победу над своим младшим другом не из чисто эгоистического побуждения, но во имя благородной цели служения принципам моральной системы добро-зло. Это как если бы какой-нибудь христианский миссионер обратил какого-нибудь варвара в христианскую религию, а затем стал бы казнить себя за эгоизм желания «одержать победу».
По первому ощущению читатель готов отнестись к подпольному человеку положительно: вот ведь какая способность к самокритике сидит в нем. Но на самом деле это не совсем так. Упомянутый миссионер никогда не смог бы обвинить себя в деспотизме и высокомерности, потому что он слишком погружен в свою веру, или, говоря научными словами, ставит объективное (спасение заблудшей души) выше субъективного (своих личных качеств). Но потому что подпольный человек не слишком верит в безусловность приоритета Высокого и Прекрасного, приоритета христианского отношения к «забитому и униженному», его личные, субъективные качества выступают на первый план. Или иначе: описывая контраст между собой и остальными школьниками, герой повести представляется читателю в образе дурака-романтика, человека, преданного благородным идеалам – ведь даже после выхода из училища он пожертвовал карьерой, лишь бы отгородиться от мира стяжательства и преклонения перед силой! И все было бы хорошо, если бы он оставался верен своим идеалам, как это делает европейский человек, даже когда мир реальности чуть ли ни гибнет на баррикадах. Ни подпольный человек, ни сам Достоевский не скажут нам последнего слова, что именно благодаря тому, что дурак-романтик верит так глупо напрямую, без рефлексии в свои принципы, так твердо остается на своей позиции, в конечном счете выходит, что мир на баррикадах не гибнет, но возрождается, как сказочный принц, который выходит из чана с кипящей смолой еще большим красавцем.
Но подпольный человек не умеет принимать себя так же напрямую и всерьез, как его западный собрат. Он не умеет верить без колебаний и саморефлексий в объективную ценность принципов христианской морали, а коли так, то, разумеется, на первый план выходит удельный вес его субъективного желания «одержать победу». Люди более сильной воли, если подчиняют себе людей меньшей воли, то, подчинив, продолжают существовать уже совершенно естественно в установившемся статусе кво. Герой же, вдохновившись, на короткое время увлекает своего младшего друга, умеет поразить его, но когда приходит время изо дня в день продолжать подобные отношения, он оказывается неспособен на это: