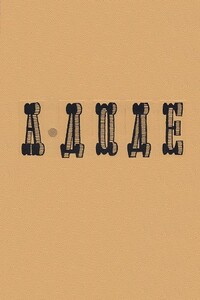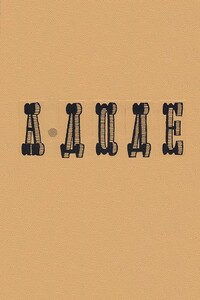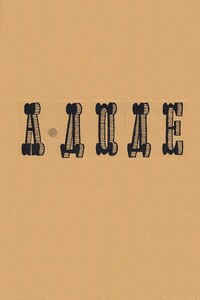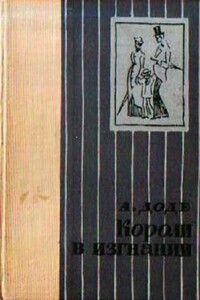Том 5. Набоб. Сафо | страница 78
Но Жансуле всего этого не замечал.
Для него она была и оставалась до приезда в Париж существом высшего порядка, женщиной из самого изысканного общества, урожденной Афшен. Он говорил с ней почтительным тоном, держался по отношению к ней с некоторой робостью и смирением, без счета давал ей деньги, удовлетворял все ее самые разорительные прихоти, самые нелепые капризы, все причуды, какие только может придумать ум левантинки, развращенный скукою и праздностью. Одно обстоятельство все извиняло: она была урожденная Афшен. Ничто не связывало супругов: муж находился постоянно в Казбе или в Бардо, подле бея, чтобы всячески ему угождать, или же сидел в своих конторах, а жена целыми днями лежала в постели, в диадеме из жемчугов, стоившей триста тысяч франков, с которою она никогда не расставалась, куря до одурения, проводя время, как в серале, окруженная еще несколькими левантинками, любуясь собой в зеркале, наряжаясь. Любимым занятием этих дам было обмерять ожерельями свои руки и ноги — чьи толще. Она рожала детей, которыми не занималась, которых никогда не видела и из-за которых даже не страдала, так как роды проходили под хлороформом. Белая мясная туша, надушенная мускусом! А Жансуле с гордостью говорил! «Моя жена — урожденная Афшен!»
Но под парижским небом, под его холодным светом наступило разочарование. Решив здесь обосноваться, принимать, устраивать вечера и балы. Набоб выписал жену-в доме должна была быть хозяйка. Но когда она вышла из вагона и он увидел эту выставку кричащих тканей, безвкуснейших драгоценностей и всю причудливую сопровождавшую ее свиту, ему показалось, что это королева Помаре в изгнании. Дело же было в том, что он успел познакомиться с настоящими светскими дамами и не мог не сравнить ее с ними. Он предполагал ознаменовать приезд жены большим балом, но был достаточно благоразумен, чтобы от этого отказаться. К тому же г-жа Жансуле не хотела никого видеть. В Париже к ее природной апатии присоединилась тоска по родным местам, вызванная сразу после ее прибытия холодным желтым туманом и проливным дождем. Несколько дней она не вставала с постели, плача навзрыд, как ребенок, кричала, что ее привезли в Париж, чтобы уморить, отказывалась даже от услуг своих горничных. Она выла, зарывшись в кружева подушки, волосы у нее сбились вокруг диадемы. Окна ее покоев оставались закрытыми, занавеси были спущены, лампы горели день и ночь, а она вопила, что хочет «уе…хать, уе…хать». Печальную картину представляла ее спальня, погруженная в погребальный полумрак, с наполовину распакованными чемоданами, валявшимися на коврах, с испуганными газелями и с негритянками, сидевшими на корточках вокруг своей госпожи, бившейся в истерике, тоже стонущими, с блуждающим взглядом, подобно собакам полярных путешественников, которые впадают в бешенство, не видя солнца.