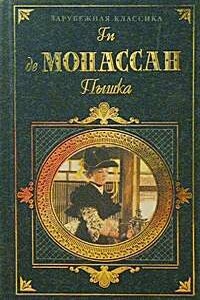Тюремная исповедь | страница 31
Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум; я делал искусство философией, и философию — искусством; я изменял мировоззрение людей и все краски мира; что был я ни говорил, что бы ни делал — все повергало людей в изумление; я взял драму — самую безличную из форм, известных в искусстве, и превратил ее в такой же глубоко личный способ выражения, как лирическое стихотворение, я одновременно расширил сферу действия драмы и обогатил ее новым толкованием; все, к чему бы я ни прикасался, — будь то драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический диалог, все озарялось неведомой дотоле красотой; я сделал законным достоянием самой истины в равной мере истинное и ложное и показал, что ложное или истинное — не более, чем обличья, порожденные нашим разумом. Я относился к Искусству, как к высшей реальности, а к жизни — как к разновидности вымысла; я пробудил воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и легендами; все философские системы я умел воплотить в одной фразе и все сущее — в эпиграмме.
Но вместе с этим во мне было и много другого. Я позволял себе надолго погружаться в отдохновение бесчувствия и чувственности. Я забавлялся тем, что слыл фланером, денди, законодателем мод. Я окружал себя мелкими людишками, низменными душами. Я стал растратчиком собственного гения и испытывал странное удовольствие, расточая вечную юность. Устав от горних высот, я нарочно погружался в бездну, охотясь за новыми ощущениями. Отклонение от нормы в сфере страсти стало для меня тем же, чем был парадокс в сфере мысли. Желание в конце концов превратилось в болезнь или в безумие — или в то и другое сразу. Я стал пренебрежительно относиться к чужой жизни. Я срывал наслажденье, когда мне было угодно, и проходил мимо. Я позабыл, что любое, маленькое и будничное, действие создает или разрушает характер, и потому все, что делалось втайне, внутри дома, будет в свой день провозглашено на кровлях. Я потерял власть над самим собой. Я уже не был Кормчим своей Души и не ведал об этом. Тебе я позволил завладеть мной, а твоему отцу — запугать меня. Я навлек на себя чудовищное бесчестье. Отныне мне осталось только одно — глубочайшее Смирение — так же, как и для тебя тоже ничего не осталось, кроме глубочайшего Смирения. Лучше бы тебе повергнуться во прах рядом со мной и принять это.
Вот уже почти два года, как я брошен в тюрьму. Из глубины моей души вырвалось дикое отчаяние, всепоглощающее горе, на которое даже смотреть без жалости было невозможно, ужасная, бессильная ярость, горький ропот и возмущение; тоска, рыдающая во весь голос; обида, не находившая голоса, и скорбь, оставшаяся безгласной. Я прошел через все мыслимые ступени страдания. Теперь я лучше самого Вордсворта понимаю, что он хотел сказать в этих строках: «Темна, черна и неизбывна Скорбь и бесконечна по своей природе». Но хотя мне и случалось радоваться мысли, что моим страданиям не будет конца, я не в силах думать о том, что они лишены всякого смысла. Но в самой глубине моей души что-то таилось, что-то говорило мне: ничто в мире не бессмысленно, и менее всего — страдание. И то, что скрывалось глубоко в моей душе, словно клад в земле, зовется Смирением.