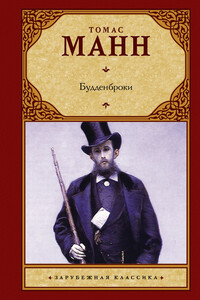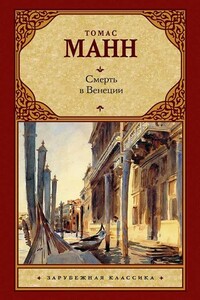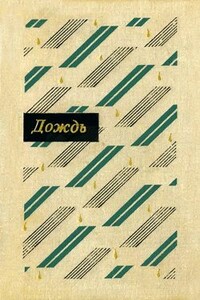Поздние новеллы | страница 46
С Розалией он любил болтать и в сторонке, с глазу на глаз, не только потому, что она являлась одной из его кормилиц и «bosses»,[30] но из искренней симпатии. Ибо если холодный ум и духовные запросы дочери внушали ему робость, то сердечная женственность матери импонировала, и, не интерпретируя верно ее чувств (ему и в голову не приходило делать это), он просто купался в излучаемом ею тепле, нравился себе в нем и почти не обращал внимания на появляющиеся при этом признаки напряжения, неловкости, которые понимал как выражение европейской нервозности и потому глубоко уважал. Ну а кроме того, при всех страданиях облик ее поражал тогда новым расцветом, она помолодела, в связи с чем ей делали комплименты. Вид ее и всегда отличался моложавостью, но во время разговоров, обыкновенно веселых и всегда дававших ей возможность смехом подкорректировать наползающую кривую улыбку, нельзя было не заметить блеска красивых карих глаз, подвижности черт пополневшего и посвежевшего лица, румянца, который, хоть и несколько лихорадочно-горячечный, так к ней шел и быстро восстанавливался после накатывающей порой бледности. На вечерах много и громко смеялись, ибо единодушно не чинились налегать на вино, пунш, и то, что могло бы показаться в поведении Розалии эксцентричным, тонуло во всеобщей, на удивление слабо сдерживаемой непринужденности. Как счастлива она, однако, бывала, когда в присутствии Кена кто-либо из женщин говорил ей: «Дорогая, вы восхитительны! Сегодня вечером вы выглядите прекрасно! Заткнете за пояс двадцатилетнюю. Скажите же, где вы обнаружили источник живой воды?» А если возлюбленный еще к тому же поддакивал: «Right you are! Фрау фон Тюммлер is perfectly delightful tonight»,[31] она смеялась, причем вспыхнувшие от радости щеки можно было объяснить услышанной лестью. Она отворачивалась, но думала о его руках и вновь чувствовала, как нутро ее заливает, затопляет невероятная сладость, что с ней теперь случалось нередко и что все остальные видели своими глазами, когда находили ее молодой и привлекательной.
Именно в один из таких вечеров, после того как общество разошлось, она нарушила верность намерению держать при себе сердечную тайну, это недозволенное, причиняющее страдание, но такое пленительное чудо души и не открывать его даже подруге-дочери. Вследствие непреодолимой потребности поделиться она оставила данное себе обещание и доверилась умной Анне, не только потому, что нуждалась в любяще-понимающем участии, но и из желания мудро восславить то, что сотворила с ней природа, эту человеческую необычайность, каковой оно и являлось.