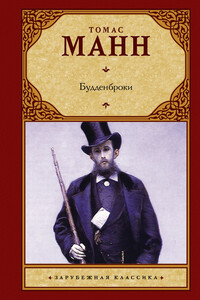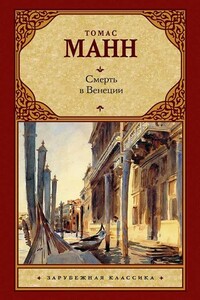Поздние новеллы | страница 16
Он снова листает что-то в свете лампы с абажуром, пишет, заканчивает несколько не самых ответственных дел и через какое-то время прислушивается к тому, как компания перебирается в салон жены, куда можно пройти как из холла, так и из его комнаты. Оттуда доносятся разговоры, в них вторгается робко-обольстительная гитара. Значит, господин Мёллер собирается петь, да вот он уже и поет. Под звучные гитарные аккорды юный чиновник сильным басом поет песню на чужом языке — может быть, шведском; с полной уверенностью профессор не может определить язык до самого конца, до самого оживленными аплодисментами сопровождаемого конца. За дверью в салон — портьера, она приглушает звук. Когда начинается новая песня, Корнелиус тихонько переходит к гостям.
Там царит полумрак. Горит только торшер с абажуром, и возле него на обитом сундуке, перебросив ногу на ногу и перебирая большим пальцем струны, сидит Мёллер. Публика расселась свободно, что окрашено некоей небрежной вынужденностью, поскольку для такого количества слушателей сидячих мест нет. Кое-кто стоит, но многие, в том числе и юные дамы, просто устроились на полу, на ковре, обхватив руками колени, а то и вытянув ноги. Гергезель, к примеру, хоть и в смокинге, тоже уселся на пол, возле ножек рояля, рядом с ним — Плайхингер. И «маленькие» здесь; фрау Корнелиус, сидя напротив певца на стуле с подлокотниками и высокой спинкой, держит их на коленях, и Кусачик — варвар — начинает болтать прямо посреди песни, так что приходится усмирять его шиканьем и грозным указательным пальцем. Лорхен никогда не довела бы до такого: она нежно, тихонько притулилась к матери. Профессор пытается встретиться с ней глазами, чтобы тайком подмигнуть своему дитенку; но она на него не смотрит, хотя, кажется, не обращает внимания и на певца. Взгляд ее проницает глубины.
Мёллер поет «Joli tambour»:
Sire, mon roi, donnez-moi votre fille.[2]
Все в восторге. Слышно, как Гергезель в нос, по-особенному, вроде бы избалованно, как все Гергезели, говорит: «Прекрасно!» Затем следует нечто немецкое, на что господин Мёллер сам написал мелодию и что молодежь встречает бурным воодушевлением, песенка нищих:
После радостной песенки нищих воцаряется чуть не ликование. «Как невыразимо прекрасно!» — снова на свой лад гундосит Гергезель. Затем следует что-то венгерское, еще один ударный номер, он исполняется на диковато-незнакомом языке, и Мёллер пожинает плоды шумного успеха. Профессор тоже демонстративно присоединяется к аплодирующим. Его греет эта научная нотка историософски-ретроспективной художественной штудии в компании шимми. Он подходит к Мёллеру, поздравляет его, говорит что-то об исполненных произведениях, об источниках, о песеннике с нотным материалом, который Мёллер обещает одолжить профессору для ознакомления. Корнелиус тем любезнее с певцом, чем больше, по примеру всех отцов, тут же сравнивает таланты и достоинства других молодых людей с талантами и достоинствами собственного сына, испытывая при этом беспокойство, зависть и стыд. Вот тебе и Мёллер, думает он, прилежный банковский чиновник. (Он понятия не имеет, так ли уж Мёллер прилежен в своем банке.) Да еще демонстрирует этот особый талант, для развития которого, разумеется, были необходимы энергия и усидчивость. А мой бедный Берт ничего-то не знает, ничего не умеет, бредит своей клоунадой, хоть очевидно, что даже для этого не обладает необходимым талантом! Профессор хочет быть справедливым, пытается утешить себя тем, что Берт при всем том чудесный юноша, куда с большими задатками, чем удачливый Мёллер, что, возможно, в нем спит поэт или что-нибудь в этом роде, а его театрально-ресторанные планы не что иное, как ребяческие, подмытые временем «заблуждания». Но завистливый отцовский пессимизм оказывается сильнее. Когда Мёллер опять принимается петь, доктор Корнелиус возвращается к себе.