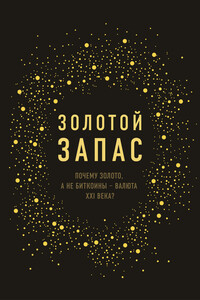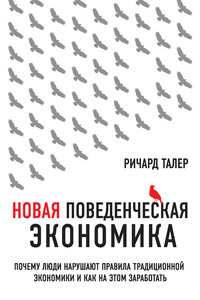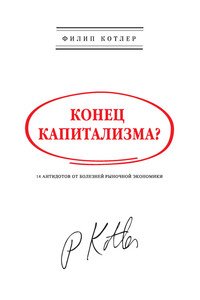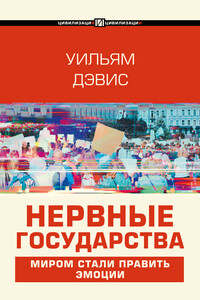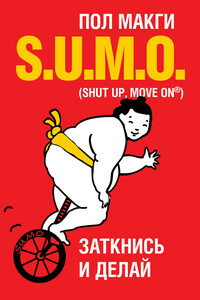Индустрия счастья. Как Big Data и новые технологии помогают добавить эмоцию в товары и услуги | страница 85
Как и любая биологическая система, тело животного сталкивается со внешними стимулами, вмешательством и прочими факторами, на которые ему приходится отвечать. Селье интересовала природа этого ответа, который иногда мог стать проблемой сам по себе. Биологические системы, подверженные атаке слишком большого числа раздражителей, закрываются; то же самое происходит, когда раздражителей слишком мало. Здоровье организма зависит от оптимального уровня активности – не слишком высокого, но и не слишком низкого. Люди в этом плане ничем не отличаются от животных, считал Селье. Пациенты, которые просто «выглядели больными» в момент его озарения на занятии, выражали общую физическую реакцию на совершенно различные болезни. Возникла монистическая теория общего хорошего самочувствия.
До 1940-х годов термин «стресс» (англ. stress – давление, напряжение. – Прим. пер.) использовался лишь для описания действий над металлом и был неизвестен за пределами инжиниринга и физики. Железо могло стать напряженным (англ. stressed), если было неспособно противостоять оказываемому давлению. Селье заметил: то, что инженеры называли амортизацией, скажем, моста, напоминало проблемы, которые он назвал общим адаптационным синдромом человеческого тела. Общий адаптационный синдром был эффективным индикатором «уровня амортизации тела»[145]. После Второй мировой войны Селье дал открытому им явлению новое название – стресс. Таким образом, к 1950-м годам возникла совершенно новая сфера медицинского и биологического исследования.
Что касается Селье, то он, как и Мэйо, никогда не считал себя просто ученым: он был уверен, что у него есть определенная миссия. Согласно его комплексному пониманию болезней целые сообщества и культуры могли заболеть, если они теряли возможность противостоять внешним раздражителям и требованиям. Аналогично они могли стать пассивными, если их недостаточно стимулировали. Со временем Селье развил свою идею в нечто наподобие этической философии, хотя и пугающе эгоцентричной. Здоровое общество, считал он, строится на основе «эгоистического альтруизма», при котором каждый индивидуум старается выложиться на все сто процентов, стремясь заслужить восхищение других. Это создает определенное естественное равновесие, при котором эгоист становится частью своей собственной социальной системы.
«Ни один человек не будет иметь личных врагов, если его эгоизм, его желание накопительства ценностей проявляются только в энергичности, готовности помочь, благодарности, уважении и других положительных чувствах, которые делают человека полезным и зачастую даже незаменимым для других»